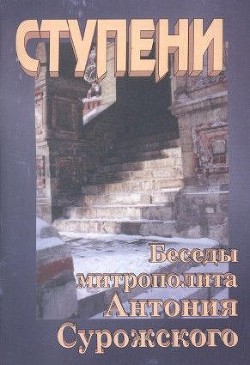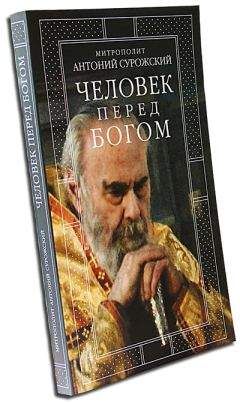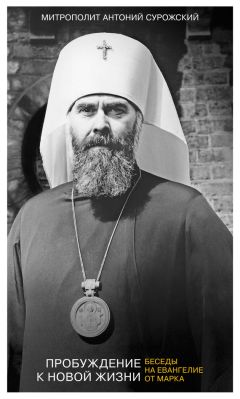с чистым искусством, искусством ради искусства.
Таким образом, Шафаревич ставит основной вопрос: можно ли найти разумный смысл в математике, если ее исследования в данный момент, а может быть, и никогда не смогут послужить решению практической задачи? И он отвечает: да, можно, в ней есть смысл, и этот смысл – в красоте и предельных сущностях, которые он называет религией и Богом. Как и для Харди, для Шафаревича смысл и красота математики коренятся в том факте, что определенная теорема истинна.
Все виды математики опирались на факты, к примеру, древняя геометрия изучала пространство, арифметика – счет. Современная математика в большей степени абстрактная наука, которая не связана с окружающей материей, но и она не отступает от интеллектуальной логики и рационального развития. А красота, как пишет Харди, приобретает особое значение, когда новая формула приводит к более широкому пониманию вещей. Чем обширнее пространство истины или чем большее число истин вмещает в себя формула, тем больше в ней красоты.
Следуя логике Шафаревича, можно прийти к заключению, что математика должна выражать предельную истину. Тогда это ведет нас к идее Пифагора о том, что в конечном итоге математика способна выразить вечные категории, включая Бога. И тогда всю тайну тварного мира можно заключить в одной математической формуле, не применимой ни к чему, потому что ее цель не в том, чтобы найти практическое применение, а в том, чтобы стать совершенным выражением смысла, цели, сути вещей. Ее можно потом поделить на вторичные элементы и сделать прикладной, но конечный результат, самое большое достижение будет в уникальном видении, вмещающем сразу все смыслы.
Это один из подходов к математике, который можно использовать и в других сферах. Я помню, как несколько лет назад в Россию приехал профессор Никос Ниссиотис [17]. Ему показывали все, что стоило посмотреть, – выставку достижений советского сельского хозяйства и промышленности, музеи, церкви. Сводили его и на балет. Он увидел выступление одной из великих балерин. Я не помню, о каком спектакле шла речь, но он сказал мне после, что, глядя на ее танец, он подумал: «Никто не может так станцевать смерть (кажется, это все-таки была „Жизель“), не пережив чисто религиозный опыт». Красота этого танца передавала смысл, превосходящий человеческое понимание смерти. В этом умирании было измерение смысла, предельного значения. Эта женщина, сказал Ниссиотис, не могла бы так танцевать, если бы она не молилась своим танцем, и, глядя на ее танец, он разделял с ней эту молитву.
Я не знаю, кто именно тогда танцевал, но если танец, если красота жеста может передавать молитву, значит, красота – это не просто то, что услаждает зрение и слух или дает ощущение гармонии материального мира. Красота – это то, что ведет нас за пределы видимого мира. И за эти пределы много лет назад, в VII веке, заглянул святой Исаак Сирин, который в одном из своих трудов говорил, что танец – это вечное занятие ангелов.
Я, говоря об этих вещах, делаю акцент именно на танце, потому что это непривычный подход. Есть более распространенное представление о небесах как о месте, где ангелы играют на скрипке и флейте (которое вызывает у меня священный ужас). Но вспомните уже упомянутые слова о танце Исаака Сирина, одного из величайших аскетов сирийской пустыни, который жил отнюдь не в Голливуде, вспомните, что царь Давид плясал перед ковчегом… Если вы задумаетесь о значении танца – да вот возьмите хотя бы это название – Lord of the Dance [18], вы поймете, что красота хореографии – ничто, если за ней не стоит человеческий опыт, а за человеческим опытом – не субъективное переживание, не аутистическая реакция, не красота как субъективный взгляд на вещи, но переживание, несущее в себе опыт общечеловеческий. Не все из нас танцуют или могут выразить себя в хореографическом движении, не все из нас умеют рисовать или писать красками, или петь, или выражать красоту так, чтобы ее можно было легко распознать. И тем не менее мы все можем ее воспринимать и выражать – если в том, что мы делаем, есть смысл, есть универсальность и предельные цели, предельное содержание.
* * *
Это приводит нас к пониманию того, что мне кажется очень важным: красота – это, безусловно, субъективный опыт, но субъективный опыт того, что объективно реально и истинно. Здесь, если можно, я замечу в скобках, что как только мы говорим об опыте, каким бы он ни был, будь то познание или физическое переживание, ощущение или что-либо еще, мы имеем в виду нечто субъективное, потому что это происходит с одним из нас. Если я открою или познаю абстрактную истину математики, физики, биологии, музыки, танца, живописи, скульптуры – до тех пор, пока объект остается только лишь объектом и ничем иным, – этот опыт не будет принадлежать мне. Но как только я опытно познаю объект, этот опыт становится субъективным. И в этом смысле столь часто встречающееся пренебрежение к слову «субъективный» – как будто это что-то замкнутое на себе, рожденное внутри человека вне связи с чем-либо объективным – неверно. Ничто объективное нельзя воспринять, пока оно не станет субъективным опытом. И в этом смысле – здесь скобка закрывается – каким бы субъективным ни было переживание красоты, прежде всего, в нем есть элемент универсальности. Даже если картина, или статуя, или какое-нибудь другое произведение создано одним человеком и воспринято только одним человеком, это произведение уже имеет смысл, потому что оно передало заложенное в него значение кому-то еще.
Я помню, как обсуждал абстрактное искусство с Ланским, одним из русских абстракционистов, работавших в Париже. Он видел абстрактное искусство как язык, на котором говорит только один человек, а понимают его, вероятно, четверо-пятеро, в зависимости от степени абстракции и уникальности формы выражения. Но даже воспринимая искусство так, вы все же этим признаете, что между автором и зрителем есть связь в виде смысла и понимания. Если бы смысла не было, зритель смотрел бы на поверхность и не видел бы ничего, кроме поверхности, покрытой красками, ничего, что позволило бы говорить о красоте. Потому что если мы говорим о красоте, значит, то, что мы наблюдаем, несет для нас какой-то смысл.
Итак, мы приходим к тому, что и с точки зрения христианства, и с точки зрения других религий (как-то один индиец, хранитель Бостонского музея, говорил мне примерно то же самое) подлинное значение искусства не в чувственном удовлетворении, а в передаче смысла. И как мы видим на