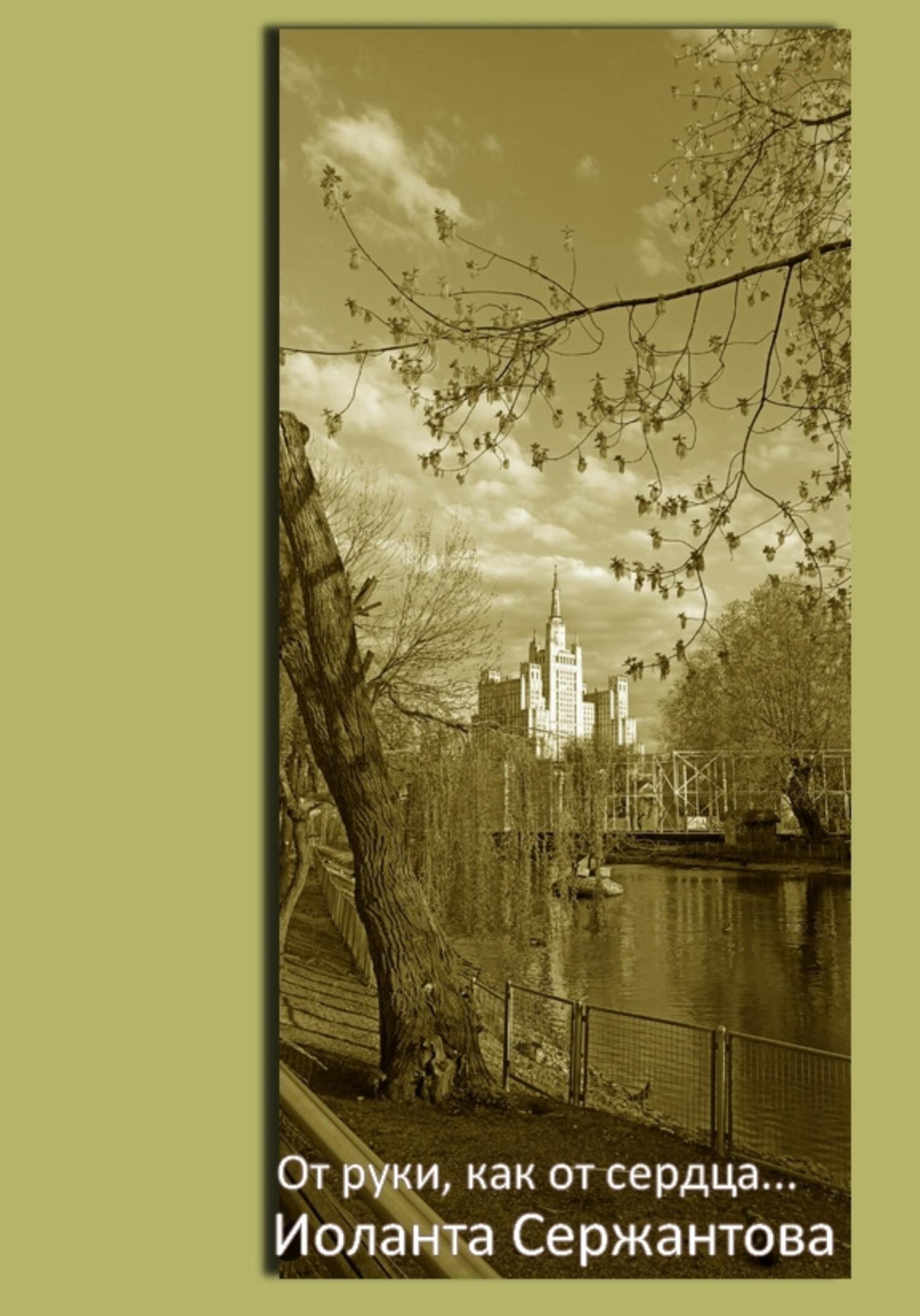пузырьками воздуха рапаны.
Волны морей, те, что по велению и тяготения к ним луны, завораживают многократно. Очарование их бесконечного обновления, в его убаюкивающем душу свойстве тешить собой надежду, как игру разума:
– Всё… будет… хорошо… – Шепчут они на ухо любому, а кажется, слышно то одному тебе.
И ведь полагаешься. Веришь на слово! А после твердишь себе то же самое, да выходить – как-то не так…
– Всё. Будет. Хорошо?
Капли дождя на ветке или склонённом к земле стволе представляются сделанными из перламутра, выпуклыми заметно клавишами флейты, старшей дочке свирели. Так вот, оказывается, чем разговаривает во сне лес. Не в своём, а в нашем!
Сам по себе он не спит, быть в яви теперь – для него дело чести, особливо после зимнего бесчувствия, когда всё происходит как бы не с тобой. Днём лес не так сговорчив, скрипят стволы, будто бы расстроенные разлаженностью игры оркестранты.
Округа лишь на первый взгляд ведёт себя, ровно каботинка. Её неудержимое стремление блистать, не имеет никакого отношения к внешнему лоску, к тому, чтобы поразить собой, но, противу обыкновения, обращается любое её поползновение в искусство и притягивает внимание продуманностью и глубиной. А простота с утончённостью столь натурально сочетаются в ней, ибо – натура такова.
Но лишь следуя её порывам, подражая, сколь возможно сердечно, можно удержаться в пределах неповторимости, в которой, самой по себе, нет ничего дурного, ибо говорено уже не раз про то, что «на свете всё на всё похоже… 14»
Куски льда возлежат с краю дороги, как выловленная только что скумбрия на прилавке; ломти гранита, смазанные белым, будто перестоявшим в холоде маслом; сугроб, что свисает из окна, спускаясь по прислоненной к стеклу ветке, словно выпростанная сквозняком тюль… Кто с кого примером? Чей за которым пригляд? Да всяк по-своему, друг за дружкой.
Мокрый гранит сверкает рыбьей чешуей слюды.
Кувиклами 15 из земли – сухие, полые стебли болиголова. Ветер играет на них тихонько. Ему не страшно, он не Сократ 16, и в стократ жив дольше.
А на ветках – капли дождя…
В иные времена даже невинный утренний туман пахнет порохом и мнится дымом. Так уж устроено, что не умеет порядочный человек быть вполне счастлив, ежели кому-то нехорошо, а он, пусть и не знает про то наверняка, но подозревает, догадывается или был некогда упреждён. Не напрямик, быть может, мимоходом, как бы промежду строк поздравительного, с Днём Ангела, письма.
Своеволие человечества, в самом деле, не в праве выбрать меньшее зло, выгадывая себе сиюминутный прок, но в умении добыть как можно бОльшую пользу, и не для себя одного, а для всех, ибо только уверенно утвердившееся на ногах добро может быть источником последующей общей бытности.
– Нет, ну ты представляешь, косули-то, мать и дочка, все мои яблони до корня сгрызли. Грушу, ту не тронули, у неё веточки обросли колючками, одичала уже.
– Да, вроде, мало было зимой-то снега…
– Так они это в июле!
– Летом?!
– Ну, а я про что! Чем только яблоньки те не отливала, всё бестолку, погибли. Убила бы этих негодниц.
– А чего ж не убила?
– Да что я, зверь какой, что ли?!
Тут же неподалёку, за поленницей, лёжа в уютном гнёздышке из сена и листвы, к разговору прислушивались те самые косули, которых только что упрекнули в непотребстве. В такт словам они прядали ушами, а со стороны казалось, что лесные козочки делают это не из осторожности, но потому как им смешно. Косули вполне изучили повадки местного люда, приноровились к ним, и от того-то некоторым казалось, что лес населён с избытком, а другим, что глубокая чаша чащи пустынна и лишёна зримой жизни.
Но вот именно к этому двору косули, что называется, прибились. Со временем они распробовали, какова на вкус собачья каша и облаивали в сумерках лиса, который тоже приноровился добавлять себе к ужину тёпленького из широкой алюминиевой миски.
…В иные времена даже невинный утренний туман мнится дымом и пахнет порохом, а в другие…
– Кашей, что ли?
– Да, хотя бы и кашей.
Сколько бы ни было нам лет, какой бы сезон не обосновался за окном на время, как навсегда, – будь то купания в проруби или купели, питья целительных вод или съездов для зимних потех промеж балаганов, – мы все в плену чудес новогодней ночи.
Но даже если события очередного года не оправдывают наших надежд, мы стараемся делать что-то необыкновенное для других, передаём в их руки факел веры в добро, справедливость, которые уже сами по себе – чудо.
Меняем ли мы тем отчасти правду жизни или уповаем на то, – неважно, ибо мир соткан из невысказанных слов, неразделённой любви, неосуществлённой мечты многих и многих, которым помешал какой-то ведомый или неведомый пустяк: недобрый взгляд намерение, плохо сдержанный порыв недовольства, либо чужое, не к месту, волнение.
Я помню, как, бывало, говорил дед:
– Раньше я не так переживал. За всех. Раньше мне – тьфу! – а сейчас беспокоюсь. Обо всём! Видимо, возраст… Надо бы… чего-нибудь… – И посылал бабушку за четвертинкой «для аппетиту», так как не желал покупать «беленькую» сам, позорить честь офицерского мундира, демонстрируя свою слабость в лавке перед сидельцем.
Бабушка горестно вздыхала, вскинув брови к корням волос, но не перечила мужу, а повязав на голову платок, брала сумку и отправлялась, за чем послали, ну и ещё прикупить правианту к столу.
На обратном пути сумка всегда была полна, узелок под подбородком растягивался, так что к дому бабушка подходила уже простоволосой. Платок совершенно не шёл к ней, он портил милый образ бабушки, сминая и пряча под грубой тканью завитые природой волосы. Мне всегда хотелось спрятать этот ненавистный цветной лоскут, но, думаю, тогда бы бабушка, покорно вздохнув, приподняла крышку окованного железом сундука, и достала другой, ещё менее интересный платок.
Кстати же, бабушка никогда не говорила про кого-то привлекательного, что тот красив, а называла его «интересным». Отчего бы так? Стыдилась ли она такого важного слова, под которым таилась, подразумеваясь, красота всего мира, или ещё из-за чего? Теперь не узнаю, а удосужился ли спросить у неё тогда – уже и не припомню.
Бабушка всегда была занята, и наблюдая за