Тётка вскочила распатланная, страшная, подбежала к окну, глянула вниз и часто закрестилась.
— Изверги… Сволочи… — шептала она. — Что делают… Что делают…
Я не подходил к окну, а только следил за нею.
Лицо тётки перекосилось, глаза расширились, и она уткнулась в свои ладони.
Я бросился в постель, укрылся с головой одеялом и заткнул уши, чтобы не слышать, как плачет тётка.
…Повешенные висели три дня — для устрашения жителей. На шее у Дарьи Петровны была надета дощечка с надписью: «Ярая коммунистка», на мужчине — «Партизан», на парне — «Шпана».
Немцы фотографировали их.
Даже много дней спустя, когда тела подвешенных убрали, я боялся ходить через перекрёсток и пробирался домой задворками.
После казни Дарьи Петровны я так ожесточился против немцев и полицаев, что готов был на самые безрассудные поступки, чтобы отомстить за неё. Тётке стоило больших усилий удержать меня от необдуманных шагов. Но я не мог успокоиться и однажды вечером, набрав в бутылку бензина и захватив зажигалку, отправился в полицию, твёрдо решив поджечь её.
К моему удивлению, ворота полиции были раскрыты настежь, ветер хлопал калиткой, часового не было. Через закрытые ставни брезжил слабый свет, доносились крики, смех, ругань; знакомая гармошка наяривала воровскую мелодию, и пьяные голоса выводили:
Здравствуй, моя Мурка,
Здравствуй, дорогая…
Здравствуй, моя Мурка, и проща-а-ай!..
Я приоткрыл ставню, упёрся коленями в фундамент и, подтянувшись на руках, заглянул в окно.
В полиции шла попойка. В комнате сдвинуты столы, на них множество бутылок с вином и водкой, закуски, в тарелках холодец, прямо на скатертях окурки, под потолком — слоями папиросный дым… Полицаи с красными лицами орали песню.
Илья играл. Время от времени он прекращал игру, опирался левым локтем о гармошку, правой рукой брал с тарелки огурец и отправлял в рот. Пожевав, снова брался играть. При всём этом лицо его сохраняло обычное тупое и безразличное выражение.
«Ну, сейчас вы у меня попляшете…» — сказал я сам себе и стал ощупывать ногой землю, чтобы спуститься.
В этот момент чья-то сильная рука схватила меня за шиворот и сбросила вниз.
— Ты что же это, братец, в окно лезешь? — услышал я грубый мужской голос, и в лицо густо пахнуло самогонкой. — Не знаешь, где двери? Пойдём покажу…
Полицейский поволок меня за собой как котёнка, на ходу приговаривая: «Мы его, понимаешь, с утра ждём, а он вишь как задержался…»
Открыв дверь, он втолкнул меня внутрь. Дохнуло жарким спёртым воздухом.
Ах, раньше ты носила
Боты из торгсина.
Фетровые боты на большо-ой…
Песня оборвалась, и все оглянулись на меня.
— Братцы! — крикнул мой конвоир. — К нам гость! Прошу любить… Не нашёл дверь и лез в окно.
— Штрафную!!! — заорали сидевшие за столом. — Штрафную!
Один верзила, налив полный стакан самогонки и качаясь на кривых кавалерийских ногах, подошёл ко мне.
— Пей, мальчик! Господа полицейские сегодня угощают всех…
Я отвернулся и отстранил стакан.
— Пей!
Он обхватил мою голову руками, прижав стакан ко рту так, что зубы хрустнули, и пытался насильно влить водку.
— Пей, пей… — приговаривал он. — Тебе, дурачок, честь оказывают… Врешь, выпьешь. Ах ты, мерзавец! Ты кусаться!
Полицейский отскочил, схватившись за руку. Я задохнулся, самогон всё же попал мне в рот. Необыкновенная ярость охватила меня. Не чувствуя никакого страха, я затопал ногами и, потрясая кулаками, исступлённо закричал:
— Гады! Пьяные рожи! Изменники! Наши придут — мы вас повесим… Всех, всех! Я не боюсь вас… Пустите! Я плюю на вас — тьфу!
Меня схватили, я брыкался, кусался, плевал во все стороны.
Полицейский, что сидел рядом с Медведем, уронил на грудь голову и, качая ею, восхищённо бормотал:
— Ах, молодец, сукин сын… Ах, молодец… — Потом поднял голову, выпучил глаза и так трахнул по столу кулаком, что стаканы подпрыгнули. — К стенке его! Трибунал!
Расстегнув кобуру, выхватил револьвер. Илья пытался удержать его…
— Петя, не надо… Он же ребёнок…
— К стенке!
Меня оттащили к стене, кто-то поставил на мою голову пол-литра водки. Грянул выстрел, бутылка разлетелась, посыпались стекла, водка потекла за воротник.
— Га-га-га! — смеялись полицейские. — Попал… В бутылку кажный дурак… Ты в рюмочку, в рюмочку…
На голову мне поставили коньячную рюмку величиной с напёрсток; полицейский поднялся во весь рост.
Илья дёргал его за галифе.
— Петя, не надо… Лучше поешь ещё, да пошли… блевать…
Но тот не послушал, вытянул вперёд пьяную руку с наганом, и она закачалась, как маятник.
Я бесстрашно смотрел в дуло револьвера, направленное мне прямо в лоб. Выстрела я не услышал, только почувствовал, как что-то ударило меня по голове и сразу стало темно…
27. НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Очнулся я только утром следующего дня. С трудом приподнявшись, посмотрел вокруг. На полу, на стульях, на диване вповалку спали полицейские. Один спал, сидя за столом и уронив голову в тарелку с холодцом. Вокруг вонь, дым, храп, сопение…
Некоторое время я сидел, не понимая, где я и как сюда попал. Потом события вчерашнего дня восстановились в моей памяти. Все вспоминалось как в тумане.
Я поднялся, держась за стенку. Шатаясь, подошёл к ближайшему полицейскому и, не отдавая себе отчёта в своих действиях, расстегнул у него кобуру и вытащил огромный тяжёлый револьвер.
Толкнув дверь, вышел на улицу и так и пошёл по тротуару без шапки, неся в руке револьвер. Встречные прохожие шарахались от меня в сторону.
Моё путешествие закончилось бы очень печально, попадись мне навстречу немецкий или венгерский солдат. К счастью, этого не случилось, и я благополучно добрался до рыночной площади.
К этому времени свежий воздух окончательно привёл меня в чувство, и я вдруг понял грозившую мне опасность.
Сунув наган за пазуху, я свернул в переулок и побежал домой.
Дома тётка выстригла мне на макушке окровавленные слипшиеся волосы, перевязала рану и крепко отругала.
Пуля ударила вскользь и сильно ушибла меня. Полицейский, должно быть, всё же попал в нижний краешек рюмки.
Несмотря на то, что я не выполнил задуманного и не поджёг полицию, я был доволен и ни о чём не жалел. Ещё бы! Теперь у меня оружие! Самое настоящее, новенькое.
Оторвав в коридоре доску, я сделал тайник и спрятал туда револьвер, бережно завернув его во фланелевую тряпку.
Каждый день я доставал его оттуда, протирал ваткой, смазывал маслом, высыпал и снова вставлял в барабан патроны. И не было для меня большего удовольствия, чем возиться с ним.
Несколько дней после ранения я чувствовал себя очень скверно. Голова гудела как чугун, было больно водить глазами из стороны в сторону, и, если я резко вставал с постели, то всё вокруг начинало кружиться, так что я вынужден был хвататься за спинку кровати, чтоб не упасть. Рана на голове покрылась коркой, и я постоянно чувствовал в ней пульсирующую боль, словно на макушке у меня сидела хищная птица и ритмично клевала в больное место.
Встал вопрос: идти или не идти мне в училище? Конечно, после такого, хоть и пустякового, ранения мне следовало бы с недельку отлежаться в постели, но посоветовавшись с тёткой, мы решили, что в училище мне идти необходимо моё отсутствие в такой момент могло вызвать подозрение.
Я взял свои книжки, показавшиеся невероятно тяжёлыми, и, опираясь на палку, потихоньку поплёлся в реальное на второй урок.
Я уже завернул за угол и стал приближаться к училищу, как вдруг увидел шедшего навстречу Ваську Блинова, с которым я когда-то менялся местами. Он шёл без книжек, пальто не застегнуто, физиономия унылая. Опустив голову, он чуть было не прошёл мимо, но я окликнул его.
— Куда это ты бредёшь? — спросил я.
Васька поднял голову и с удивлением уставился на меня, словно увидел впервые.
— Иду домой… — неопределенно ответил он.
— А что ты такой невеселый? Выгнали?
Васька взглянул в сторону училища и безнадежно махнул рукой.
— Директор за матерью послал… Пришли два полицейских и сказали, что вчера кто-то из мальчишек украл у них наган. Директор привёл их в класс, и они давай шарить по нас глазами. А я полез под парту — ручка упала. Ну они и решили, что я прячусь. Ты, говорят, украл. А я не крал… Пусть кого хотят спросят. Мы вчера с матерью весь вечер кукурузу мололи. Люди видели…
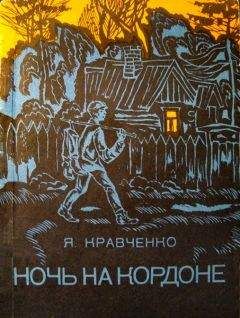
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)


