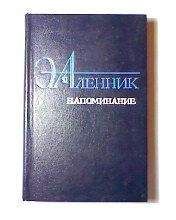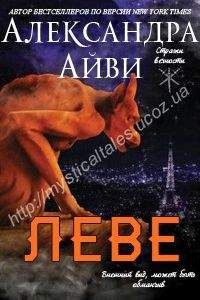Тут Маринка не выдержала:
— Вы сами больше меня виноваты! Кто выхватил мою тряпку? Кто бросил мокрый кирпичик в контейнер и начал со мной танцевать? Ведь вы, дядя Серёжа! Ну, помните?..
Сергея Кудрявцева словно молнией ударило в морозный вечер. От неожиданности — остолбенел. Потом он обернулся и, прикрывая неловкость улыбкой, глянул на Журавленко:
— А было такое дело… Вот чёрт возьми, а… Ну, ладно, Иван Григорьевич, всё хорошо, что хорошо кончается!
Журавленко смотрел сквозь стекло на заснеженные ветки.
— Нет. Не согласен, — сказал он, не повернув головы, не то Кудрявцеву, не то себе и этим веткам в Парке Победы. — Должно и начинаться без нелепых, тупых оплошностей, и продолжаться…
— Вот хотите, — никаких тупых оплошностей больше никогда не будет. Ну ни одной! — заявила Маринка, и так авторитетно, что взрослые засмеялись, а Журавленко громче всех.
* * *
Когда он приехал домой, было начало двенадцатого.
В его комнате дожидались маленький очкастый мастер и высокий, сутулый. Чтобы скоротать время, они играли в шахматы. А годившийся им в сыновья третий помощник следил за игрой. Он недавно стремглав появился в лыжном костюме, с лыжными палками, с обветренным лицом, — прямо с какого-то соревнования.
— Спасибо, — сказал Журавленко, тронутый так, увидев их, что даже голос дрогнул. — Наши дела хороши. Хлопали вам, а вы и не знали.
Маленький мастер прищурился. На секунду его ресницы остренькими пучочками упёрлись в стёкла очков. Потом он объявил:
— Шах королю, Василий Тимофеевич. Учись, Виктор!
И потёр тоненьким пальцем свой подбородочек. Ну как будто ничего такого он не услышал, не сидел в ожидании этой вести весь вечер, а играл себе, и всё. Шахматы он всё же отодвинул.
Журавленко рассказал им о том, что было в Доме Новой Техники, и добавил:
— Вот как выполняв решение построить машину в кратчайший срок, — еще вопрос. По-моему, Липялин намерен стопорить.
— То есть как? На каком основании? — закричал Виктор. — Да полсотни таких машин — и все мы до конца семилетки в отдельных квартирах заживём! Пусть только попробует…
— Может, — как его, Липялин? — и попробует, — спокойненько возразил Яков Ильич. — А ничего. Начнёт куролесить, мы прямиком на него пойдём. И впереди, не в обиду тебе будь сказано, Иван Григорьевич, не ты пойдёшь, давно бы мог, а самолюбие мешает. Пойдём мы с Мишей Шевелёвым под ручку.
Несмотря на то, что речь шла о самом важном вопросе, все улыбнулись. Представить себе Якова Ильича под ручку с Шевелёвым и не улыбнуться было трудно. Ростом-то Яков Ильич доставал Шевелёву, ну от силы, до подмышки, хотя был стройненьким, пряменьким, да ещё с высоким ёжиком.
По тому, как Яков Ильич повторил: «Именно, под ручку и пойдём» — Журавленко понял, что он обиделся, что рост — его самое больное место.
И вдруг Журавленко рассердился на себя за улыбку, за всё сразу:
— Какая же я свинья! Никуда не заехал, ничего не купил. Столько часов прождали!.. Давайте хотя бы чаю выпьем.
— Будет тебе, Иван Григорьевич. Сам попьёшь, — сказал Василий Тимофеевич. — После такого экзамена требуется человеку в тишине одному побыть.
А Яков Ильич пряменько поднял ручку и предупредил:
— На полдороге ничем не угощаюсь. Построят машину, поглядим, как машина построит дом, — тогда другое дело!
Все трое разом поднялись.
— Значит, чтобы держать связь, — сказал Василий Тимофеевич.
— Буду забегать к вам, — ладно, Иван Григорьевич? — сказал Виктор.
— А пустовато в комнате стало, — сказал Яков Ильич.
И они ушли. Журавленко сел на стул, как любил с детства, — верхо́м. Положил на деревянную спинку руки, на них подбородок, и только сейчас по-настоящему почувствовал, как он счастлив.
Но перед ним был пустой угол. В нём долго стояла башня, то бессильно опираясь о стены, то высилась стройная, крепкая, не нуждаясь в поддержке. И вот — её нет. И Журавленко с удивлением признался себе, что ему чего-то жаль до щемящей боли.
Чего жаль? Мучительного поиска каждого нужного решения? Радости, когда его находил? Упорства? Бессонных ночей среди обрезков железа? Или этого вечного «Некогда, некогда!»?
«Интересно устроен человек, — подумал Журавленко. — Даже в тот час, когда сбывается мечта, всё-таки жаль того, что ушло… Значит, ты не отдашь не только этого часа, но и трудной, неимоверно трудной дороги к нему».
Глава тридцать шестая. Маринка и Лёва рассекречивают тайну
«Победа» привезла домой Шевелёва, Кудрявцева и ребят после того как вышел у своего дома Журавленко, — то есть через минуту, самое большее через две. Лёва хотел что-то сказать Маринке с глазу на глаз, но не имел возможности. Было очень поздно. Пришлось сразу разойтись по своим квартирам.
Наутро он подождал Маринку на лестнице и сразу начал:
— Если ты совсем девчонка, — тогда нечего… Мне — пусть папа, пусть сам Иван Григорьевич скажет: «Брось мокрый кирпич в контейнер!» — ни за что!
— Да не сказал он; сам вырвал, бросил, и мы стали танцевать…
— Тоже занятие для человека! — с возмущением сказал Лёва. — Если тебе первым делом танцы, нечего тогда… Вообще, никакой ты тогда не товарищ. Зачем с таким дружить? Дружить — это когда один за другого когда хочешь может ответить.
Маринка рывком повернулась к Лёве и подняла руку к его щеке.
— Ударь, пользуйся, что с девчонками не дерусь!
— Подумаешь, герой! — ответила Маринка, а руку опустила. Голос её был ехидный, а глаза гневные, оскорблённые.
— Увидел бы Иван Григорьевич злюку. С ним-то ах, какая!..
— Какая? — крикнула Маринка.
— Сама знаешь!
— Нет, раз начал, так говори!
— Говорю: сама знаешь.
— Что я знаю?
— То!
Маринка опять подняла руку, размахнулась.
Лёва поймал её руку и держал.
— Отпусти!
Лёва не отпускал.
— Отпусти, больно!
— Не успеешь в четверть силы дотронуться, — «больно», а ещё драться лезет.
Он вздохнул и подвёл итог:
— Ты знай: если что делать вместе, так делать. Если говорить, так не врать. Иначе сама…
Маринка не могла допустить, чтобы он договорил.
— Воображало! — закричала она от невыносимой обиды. — Очень-то надо! Без тебя мне в тысячу раз лучше!
От этих слов Лёва прямо-таки задохнулся, побежал вперёд и зашагал впереди Маринки.
Маринка смотрела ему в спину; спина отдалялась всё больше. В уме Маринки проносилось: «Не воображало он! Нет, без него не лучше! Совсем наоборот!» И так громко эти слова проносились в уме, как будто она их кричала на всю улицу.
* * *
Лёва шёл впереди в тревожном настроении. На утреннем тёмном январском небе хмуро вырисовывались крыши домов. Фонари горели в кольцах тумана.
Лёва шёл и представлял себе страшные картины:
Ночь. Тишина и темнота. Розовенький стоит у парадной Дома Новой Техники и говорит кому-то: «Пора!»
Кто-то с карманным фонариком прокрадывается в дом, отмыкает пустяковый замок соседней с вестибюлем комнаты, развинчивает трубы в глазках, ломает модель и с особым старанием коверкает башню.
А вот сейчас, когда Лёва шагает в школу, в ту комнату входят Иван Григорьевич с дядей Мишей и видят вместо модели груду железных обломков…
Если бы Лёву вызвали на первом уроке и спросили по грамматике даже то, что он знает, — определённо заработал бы двойку.
Но постепенно он втянулся в школьные дела.
На большой перемене подошла к нему Маринка, предупредила, что говорит с ним только по делу, — так бы ни за что! А дело у неё такое, что нечего больше скрывать про Журавленко. Раз столько народу узнало всё на собрании, — можно и в школе всё рассказать.
И Маринка крикнула:
— Ребята! Хотите узнать про одного человека?
Лёва разозлился:
— Опять «одного человека»! Теперь можем рассказать про Журавленко. Зовут его Иван Григорьевич.
— А кто он вам? — спросили ребята.
Маринка и Лёва не знали, как ответить. Знакомый? Это просто до смешного мало. Друг? Это уж чересчур…
— Вы не перебивайте, — постаралась улизнуть от прямого ответа Маринка. — Попробуйте, чтобы всё было по порядку, когда перебивают!
И они начали рассказывать по порядку: про первую встречу и комнату с башней, про женщину в короткой чёрной шубе и молоденького милиционера; про то, как во время первого пробного пуска модели рухнула башня и как долго Журавленко всё пересчитывал, и как не просто было догадаться, отчего она рухнула.
— Помните, я вам показывал с мячиком, — сказал Лёва.
— Ага! — вспомнили некоторые из ребят и теснее обступили его и Маринку. — Ну, дальше, дальше!
И они, переживая всё вновь, рассказывали дальше, как потянулись к Журавленко люди и в его комнате образовалась Общественная мастерская изобретателя; как пришлось пробираться Маринке и Лёве на вчерашнее собрание в Доме Новой Техники и что это собрание постановило. Под конец они рассказали о Розовеньком: и о первом его разговоре с Журавленко, и о том, как Журавленко грустно пропел: