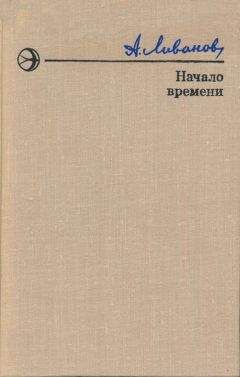ли чего с моим папой? — вдруг пронзила меня тревожная мысль.
— Нет же, нет… Отец твой выздоравливает, скоро выпишется, — тем же тоном ответил Арсен.
Но я ему почему-то не поверил. Наверно, что-то случилось с папой, а не то чего бы им от меня скрывать? Ведь они обычно во всем доверяли мне. Потому-то со все более возрастающим беспокойством я требовал, чтобы они сказали мне, что произошло с папой, и даже угрожал, что, если не скажут, я сам отправлюсь в больницу и все узнаю.
Видимо, эти мои угрозы всерьез обеспокоили ребят.
— Этот парень сошел с ума, он и нам и отцу своему все дело испортит! — воскликнул Завен.
Тут подошел Цолак и, узнав, в чем дело, стал успокаивать меня, говорить, что с папой ничего не случилось. Но, видя, что уговоры на меня не действуют, он вынужден был уступить:
— Ладно, я скажу тебе, в чем дело. Но только знай: это самая важная тайна из всех, что мы тебе когда-либо доверили, и держи язык за зубами.
И он объяснил, что сегодня вечером он вместе с Арсеном, Завеном, Корюном и Варткесом идут на какое-то подпольное собрание. Я был взволнован и оскорблен до глубины души. Ведь мне-то казалось, что у них не может быть никаких тайн от меня… И вот они отправляются на подпольное собрание (подумать только — под-поль-ное!) и не только не берут меня с собой, но даже пытались сохранить это в тайне от меня…
По-видимому, все мои мысли были написаны на моем лице так ясно, что Цолак понял их и стал утешать меня, уговаривать.
— Ты не горюй, Гагик-джан, — сказал он. — Там ничего интересного не будет… И кроме того, видишь, сегодня я веду туда только четверых, а Асканаза, Левона, Вардана и тебя сведу в другой раз.
Эти слова еще больнее обидели меня.
— Как же ты равняешь меня с ними? — закричал я. — Может, это они распространили столько листовок? А может, они умеют так же, как я, хранить важные тайны? Помнишь, когда Дьячок пытался заставить меня проговориться, удалось ему вытянуть из меня хотя бы словечко?.. А будь на моем месте Асканаз или Левон, еще не известно, что бы получилось… Нет, не надо меня брать куда-то там с ними. Или я пойду сегодня с Арсеном и остальными, или никогда и никуда не пойду!
Цолак слушал мою взволнованную и бессвязную речь с улыбкой, а когда я закончил, вдруг потрепал меня за волосы.
— Прости меня, Гагик, ты, пожалуй, и правда уже совсем зрелый революционер, — сказал он и повернулся к ребятам: — Как думаете, может, возьмем с собой Гагика?..
Ребята молча пожали плечами, и тогда я сердито проговорил:
— Плечами пожимаете, значит?.. И еще называетесь друзьями?.. Когда выкидываете всякие дурацкие номера, без меня не обойтись, а когда собираетесь настоящим делом заниматься, тут же обо мне забываете.
Может, именно этот довод произвел на них самое сильное впечатление, потому что тут ребята хоть и заулыбались, но тем не менее единодушно согласились, чтобы и я шел с ними.
Цолак повел нас в тот переулок, где находился дом его «тетушки». По дороге он то и дело оглядывался, проверял, не увязался ли за нами «хвост». Мы подошли к воротам. Цолак снова на знакомый манер постучал колотушкой в дверь. Вскоре послышалось шарканье шлепанцев, и затем старческий голос спросил:
— Кто там?
— Сын сестры Гегама, — ответил Цолак, хотя нас было пятеро.
Что-то лязгнуло, дверь отворилась, и мы вошли.
— Здравствуйте, матушка, — сказал Цолак.
Но старушка не отвечала, пока снова не заперла дверь на многочисленные замки, запоры и щеколды. Потом повернулась к нам и сказала:
— Здравствуй, Цолак-джан… Здравствуйте, ребята, входите, Тигран ждет вас…
Мы прошли по аллее к дому и все разом втиснулись сначала в маленькую прихожую, а затем в большую комнату, обставленную, как большинство жилищ старого Еревана: рядом с буфетом, шифоньером и венскими стульями стояли покрытые паласами низенькие тахты с арсеналом больших и малых подушек, а к стене был прибит большой ковер. На других стенах тоже были ковры, но все это я разглядел позже, потому что, едва мы вошли, наше внимание привлек сидевший за столом человек — широкоплечий, с уже седеющими висками.
На резко очерченном лице его лежала печать усталости. Но глаза еще не потеряли молодого блеска и теперь внимательно и с интересом изучали нас каждого по очереди.
— Здравствуйте, товарищ Тигран, — с уважением сказал Цолак. — Вот, привел наших парней…
И он стал представлять нас этому человеку. Начал, конечно, со старших, с Арсена и других, но товарищ Тигран вдруг прервал его и, указывая на меня, спросил:
— А кто этот юноша?
Его удивленный взгляд и это подчеркнутое «юноша» свидетельствовали о том, что он не особенно доволен моим присутствием. И, честно говоря, я и сам-то в ту минуту впервые подумал, что лучше бы мне не упорствовать и не набиваться сюда.
— Это наш Гагик, сын того наборщика, о котором я вам рассказывал, — поспешно сказал Цолак. — Я думаю, Гагик может быть полезным нам…
Товарищ Тигран снова внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Возможно… Ну, дорогой друг, теперь ты должен понимать, что тебе оказано доверие, большое доверие, и ты должен постараться оправдать его. Во-первых, нужно крепко держать язык за зубами. И во-вторых, помогать нам…
Тут ребята наперебой стали уверять его, что я действительно парень не из болтливых, и даже не раз испытанный, и что мне можно доверять. Товарищ Тигран улыбнулся и заговорил с Арсеном и с остальными. Его интересовало, откуда родом каждый, сколько кому лет, как попал в муз-команду, читал ли политические книги и какие, как понимает тот или иной вопрос, и так далее.
Пока они беседовали, в комнату вошли еще несколько военных. Некоторых из них я знал — они служили в нашем полку, остальные были мне незнакомы. Потом пришли еще какие-то люди в рабочей одежде, явно железнодорожники.
Вновь прибывшие незаметно присоединялись к разговору, который понемногу становился уже общим.
Один из солдат, по-видимому прибывший с фронта, рассказывал, что положение там безнадежное: турки заняли Сарикамыш и Карс, теперь продвигаются к Александрополю. Люди бегут из этих краев от погромов, резни, грабежей и насилия. Безоружные и голодные солдаты дашнакской армии, не верящие своим командирам, страшась неизбежного поражения и не желая попадать в плен к туркам, самовольно оставляют фронт и дезертируют целыми группами…
А один из железнодорожников говорил о том, что голод в стране достиг ужасающих размеров. Пуд пшеницы стоит двадцать пять