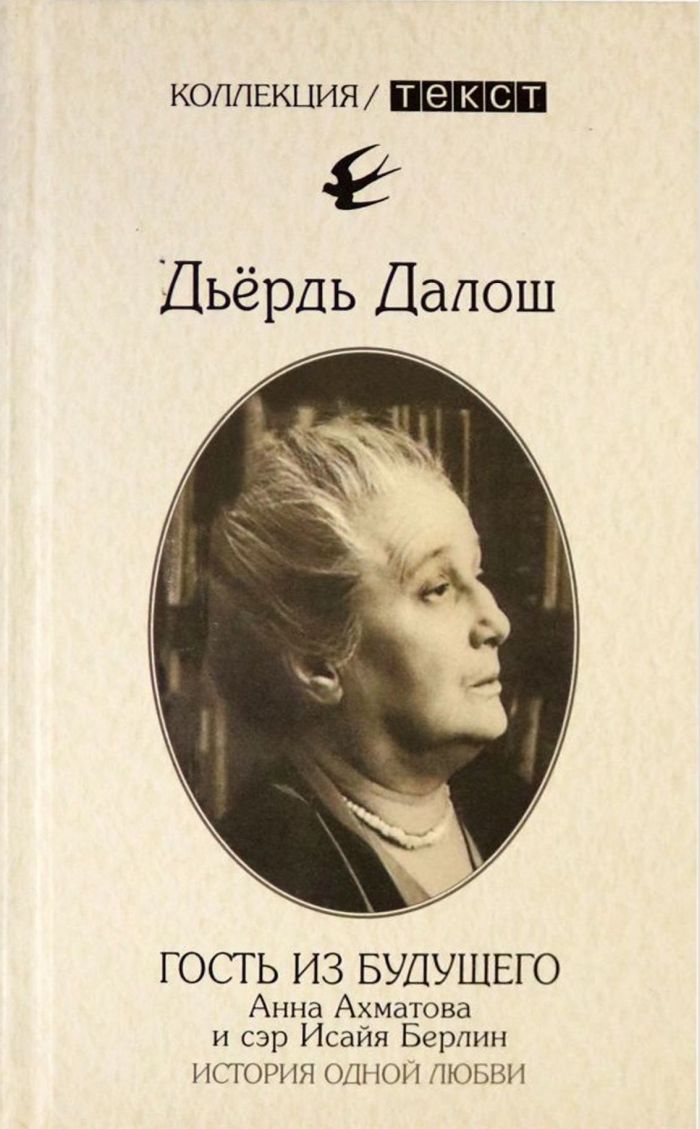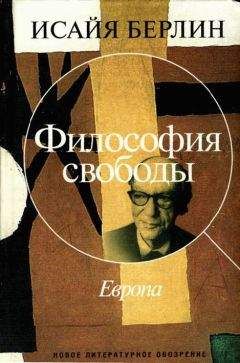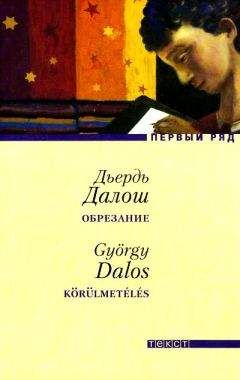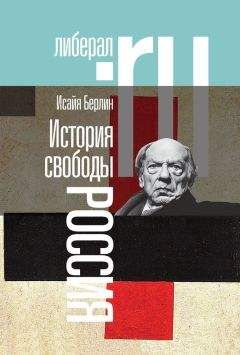каким этот очень распространенный тип встраивал официальное словоблудие в свой филистерский лексикон. Из-за этого враги Зощенко называли его певцом мещанства; он же пытался опровергать подобную демагогию с помощью тоже не вполне искренних аргументов, что он-де на самом деле — критик советского мещанства. В действительности его критика шла гораздо дальше: на семантическом уровне он разоблачал всю лживую идеологическую фразеологию.
Маленький человек у Зощенко, например, следующим образом интерпретирует официальную версию советского взгляда на историю:
«Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.
Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.
Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.
И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чем пришел. Это было достижение» («Прелести культуры»).
На иностранцев же homo sovieticus у Зощенко смотрит так:
«Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы» («Иностранцы»).
И наконец, выдержка из торжественной речи некоего управдома по случаю столетия смерти Пушкина:
«Так вот я кончаю, товарищи… Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А, как говорится, взятки гладки… Вообще темная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос» («В пушкинские дни»).
Если принять во внимание, что этот насыщенный едва ли не фашистскими настроениями, открыто враждебный культуре монолог Зощенко написал в 1937 году, когда он и сам еще принадлежал к привилегированному слою, то легко будет представить, чего он ждал от тех, кто вовсе не собирался Пушкина «носить на руках». То есть он ни минуты не мог надеяться на то, что подрывная сила, прячущаяся в квази цитатах советского общеупотребительного языка, долго будет оставаться незамеченной цензорами. Просто чудо, что имя Зощенко замелькало в секретной переписке высших партийных инстанций и органов цензуры только с 1943 года.
Но какие криминальные произведения можно было найти у Ахматовой? В докладе Жданова дословно процитированы только четыре строчки из ее стихов, три стихотворения упоминаются прямо, еще одно — косвенно.
С точки зрения коммунистов, достаточным поводом для осуждения могло служить, с большими или меньшими основаниями, лишь стихотворение, в котором поэтесса вспоминает старый Петербург. Жданов приводит из него одну строчку: «…Все расхищено, предано, продано…» Правда, стихотворение это было написано в 1921 году и тогда же опубликовано. Критики нашлись сразу же — в лагере Пролеткульта; они увидели в стихотворении «контрреволюционное содержание». Однако критик Н. Осинский — он же крупный партийный деятель Валериан Оболенский — в центральном органе партии, газете «Правда», в номере от 4 июля 1922 года, выступил в защиту Ахматовой, не побоявшись сказать: «Действительно, многое расхищено, предано и продано всей той мутью, которая поднялась вместе с революцией…» Этот факт в свое время признали даже многие коммунисты.
Жданова возмутило и другое стихотворение, опубликованное в журнале «Ленинград». В нем поэтесса говорит о своем одиночестве в ташкентской эвакуации, о том, что одиночество это она вынуждена делить лишь с черным котом. «О черном коте Ахматова писала и в 1909 году», — многозначительно и зловеще замечает верховный командующий советской культурой. Что тут скажешь: наверное, даже в том, 1946 году нелепо звучало, что советские люди — во время Великой Отечественной войны! — не должны были испытывать чувства одиночества.
Но особую ярость у Жданова вызвали строки из сборника «Anno Domini»:
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…
Верховный идеолог так старается заклеймить религиозную метафорику стихотворения, что в своем благородном гневе забывает упомянуть мотив, вызвавший клятвенные слова: «Я к тебе никогда не вернусь». (Любопытный штрих: в опубликованном в ГДР немецком тексте доклада Жданова «ангельский сад» переведен как «английский сад», — видимо, это должно было служить намеком на то, что поэтесса преклоняется перед британским империализмом.)
Жданов, разумеется, умалчивает, что и данное стихотворение было написано в 1921 году, то есть имеет очень мало отношения к критике в адрес двух ленинградских журналов. Это особенно бросается в глаза, если принять во внимание, что гневный выпад против Ахматовой, особенно слово «блудница», фигурирующее здесь как клеймо, опирается исключительно на эти три строчки. Невольно складывается впечатление, что адресатом злобных выпадов Жданова является не поэзия, а поэтесса.
Полноты ради нужно сказать, что в поисках уничижительных аргументов Жданов обращался к весьма авторитетным источникам. Литературовед Борис Эйхенбаум в 20-х годах, анализируя взаимосвязь религиозно-мистических и эротических элементов в поэзии Ахматовой, пришел к следующему выводу: «Тут уже начинает складываться парадоксальный своей двойственностью (вернее — оксюморонностью) образ героини — не то „блудницы“ с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощенье».
Любому читателю, обладающему хоть каким-то опытом в работе с книгой, предельно ясно, что Эйхенбаум говорит здесь о героине Ахматовой, о ее лирическом «я». Различие между реальной личностью и поэтической проекцией ее души примерно столь же велико, как различие между поэзией и жизненной правдой, между мечтой и реальностью. Когда Жданов, по злонамерению или по чистому невежеству, отождествляет лирическое «я» поэтессы с ее личностью, то слово «блудница», с его библейской окраской (грешница, распутная жена), становится заурядным ругательством. Если же его произнести с соответствующим выражением, кривя губы, то оно выступает аналогом низких словечек «курва», «блядь». Жданов в данном случае апеллировал к примитивным сексуальным инстинктам общества, которое жило в атмосфере запретов на эротику. А поскольку в общественном сознании доклад Жданова и Постановление ЦК означали одно и то же, то двойное оскорбление «монахиня и блудница» было возведено в ранг официально одобренной «характеристики» поэтессы. Ахматову, можно сказать, назначили «монахиней и блудницей».
Не намного утешительнее была ситуация с понятием «эротика». У