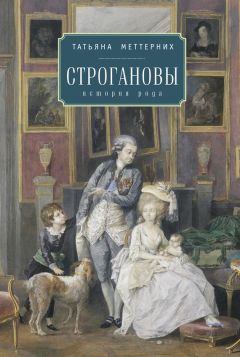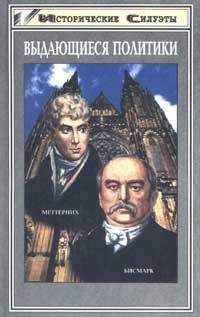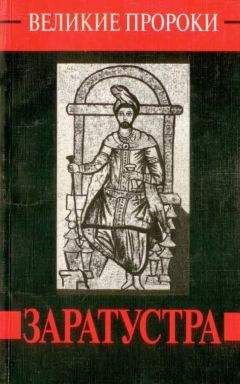письма!» Я лишь сухо ответила: «Я и сама не знала, какие письма были адресованы мне, а какие нет, так как тогда многие доверили мне свои письма для хранения, считая, что у меня они будут в большей безопасности». (В большинстве это были любовные письма, адресованные подругам, в которых в качестве обращения были употреблены различные ласкательные имена, вероятно, они здесь составили запутанную картину о большом количестве разнообразных поклонников, если всех они приписали мне.)
Экскурсовод отвела меня в сторону и примирительно прошептала: «Мы знаем также из ваших писем, что ваш муж не был нацистом, что бы ни утверждали». Тем не менее они повторяли в течение многих лет эти ложные утверждения, пока Павел не написал официальное письмо, в котором выразил своё возмущение, имевшее определённое воздействие к лучшему.
С этого момента она говорила, больше обращаясь к нам, дружелюбным, но несколько беспомощным образом. Другие туристы остолбенело смотрели на нас, не понимали ничего и усердно шлёпали в своих фетровых тапочках дальше, словно желая оправдать стоимость своих входных билетов. Мы же поглядывали по сторонам и замечали всё, что отсутствовало в помещениях. Мы получили много сообщений, из которых можно было по кусочкам восстановить картину разграбления.
В первые послевоенные годы, пока здесь осуществлялся контроль американцев, дом оставался почти нетронутым, не считая того, что мою одежду и постельное бельё поделили между собой подруги дежурящих здесь американских солдат.
Американский посол Стайнхардт вновь восстановил здесь порядок и приказал составить список вещей и всего имущества.
Когда во владение домом вступили чехи, то сейф в комнате Павла был вскрыт специально привезёнными для этой цели из Пльзеня двумя преступниками, но мы не оставили в нем ничего ценного.
В это же время срубили большое дерево, стоящее у озера, чтобы распилить его на дрова, и довели до обвала мост, ведущий на остров.
Мы дошли до рабочего кабинета Меттерниха, который опустошить было не так-то легко. Всё ещё стояли в высоту всей стены ящики с книгами, но многое из красивой мебели исчезло: карточные столики, ящики с актами и даже письменный стол. Нигде не было ковров. В Зелёной гостиной я с удивлением воскликнула: «Но этого никогда не было в доме!»
Посреди комнаты стояли кресла в стиле ампир с грубой позолотой, напоминающие обстановку старомодной передней зубного врача. Меттерних никогда бы не потерпел вокруг себя ничего столь уродливого.
«Мы собираем всё, что подходит к тому времени», – прозвучал ответ. Что должно было означать в этом смысле «к тому времени»? Канцлер жил очень долго. Хотя он перестроил дом, здесь имелось ещё много имеющего значение как для семьи, так и для европейской истории, все, что накопилось до и после его времени, не говоря уже об очаровании всех необязательно «ценных» предметов, которые собирало одно поколение за другим. Мы узнали, что здесь постоянно происходило воровство: партийные деятели увезли ковры, средневековую обивку из Красной гостиной и более мелкие предметы, которые попадались им на глаза. Вероятно, это происходило под извиняющим предлогом: «не относится ко времени» – растяжимое понятие, служившее бюрократическим прикрытием всех насильственных мер. Никто бы и не посмел противоречить. Не без основания Дубчек обвинил предыдущий режим в коррупции.
После биллиардной комнаты, сохранившейся без изменений, на очереди была расположенная в центре Большая гостиная, высокие окна которой с обеих сторон выходили на балкон, где мы летом иногда сидели. Гостиная была совершенно пуста: за исключением скульптур Кановы и некоторых картин, здесь не было ничего. Где же были итальянские мраморные консоли, китайские сундуки, письменный стол, большой ковер – всё, что ещё можно было увидеть на сделанных недавно нашими друзьями фотографиях?
Однако огромный портрет Николая I, российского царя, ещё висел на своём месте. «Он не является выдающимся произведением искусства», – заметила неодобрительно экскурсовод. Я согласилась с ней: «Его никогда таким и не считали». – «Но как мог царь Николай послать Меттерниху такое произведение?» – «Может быть, в то время у него не было лучшего художника», – сказала я примирительно. «И все же удивительно, что русский царь подарил канцлеру Австрии такой плохой портрет!» Рассердившись, я сказала, наконец: «Если он был достаточно хорош как для царя Николая, так и для канцлера Меттерниха, то и вы могли бы с этим смириться».
Идиотский, в духе Кафки, разговор.
Павел заметил со свойственной ему объективностью: «Не стоит сердиться из-за этого. Она не имеет в виду ничего дурного и пытается по крайней мере содержать дом в порядке, насколько это возможно».
В столовой, где в стенной обивке находились портреты рейнских курфюрстов, выставили на обозрение несколько частей знаменитой бронзовой «Thomire», которую Меттерних получил в подарок от города Брюсселя. Тогда я хотела отправить её в Йоганнисберг, но мне помешали местные нацистские власти; кое-что, значит, ещё здесь осталось.
Следующие помещения были полностью заполнены странными китайскими вазами, поставленными на покрытые бархатом ступеньки, как в витрине: ни одна из них не принадлежала нам, или, лучше, «когда-то» принадлежала нам.
Музей казался в относительном порядке; знаменитая библиотека была, правда, настолько обширна, что невозможно было с одного взгляда установить, осталась ли она нетронутой. Нам рассказали, что пергаментные свитки перевозились под проливным дождём без покрытия в открытом грузовике по обледенелой дороге.
Церковь была завалена мебелью: некоторая принадлежала дому, другая Йоганнисбергу, откуда была перевезена сюда после разрушения в 1942 году.
Прежде чем уехать, я попросила женщину показать нам наши спальни, что она любезно и сделала: всё в них казалось ещё без изменения, хоть и было покрыто пылью и выцвело. В ванные комнаты нам не разрешили заглянуть; позднее мы услышали, что из них убрали всё оборудование, даже кафель и электропроводку.
Как бы ни насильственны были эти меры, но, вероятно, это было правильным, чтобы сделать дом непригодным для жилья и сохранить его как историческую и художественную ценность, ведь Кёнигсварт всё ещё считается в Чехословакии одним из наиболее сохранившихся «государственных музеев».
Когда мы медленно ехали по улице, уводящей от дома, оглянулись и увидели, что перед фасадом дома, обращённым к парку, на скошенной поляне был расстелен огромный льняной платок. Девушки, которые сидели в день нашего приезда во дворе, сейчас танцевали на нём.
Вероятно, здесь снимался фильм, и девушки разместились в гостевых комнатах в конце флигеля, который мы только что осмотрели. Военные машины, которые мы увидели по прибытии, привезли камеры и всё необходимое оборудование.
Чуждая картина, развернувшаяся перед нами, ещё более усилила впечатление нереальности нашего посещения.
Экскурсовод в Кёнигсварте вдруг передала нам sotto voce [34], что наш старый чешский