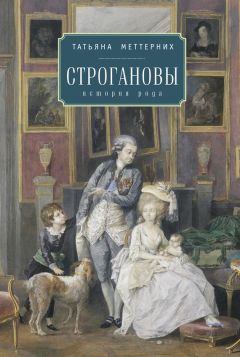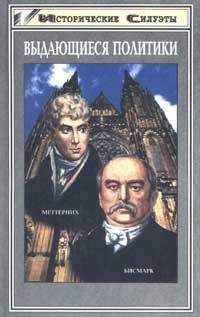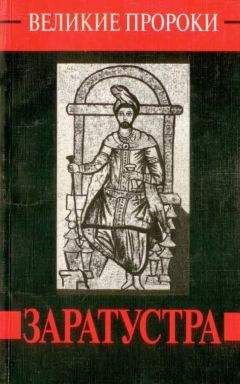садовник был бы очень рад повидать нас.
Мы поехали к его маленькому дому на окраине деревни и пригласили пообедать с нами. Со слезами схватил он руку Павла и, гордым жестом показывая на скромную комнатку, в которой мы сидели, объявил: «Принадлежит также Вашему Сиятельству».
Он рассказал нам, что его сын уехал из страны, но сам он чувствует себя слишком старым, чтобы соединиться с ним.
Это на какое-то время обмануло нас в окончательном разрыве с прошлым.
Но мы чувствовали себя душевно удрученными, когдаехалидальше по лесу. Он простирался неизменившимся перед нами, лишь справа и слева над деревьями зачерневшая дорога бросала серый шлейф пыли.
Природа была такой же великолепной, как и раньше. Мы проехали Пльзень и быстро добрались до Пласса, чешского имения Павла.
Нам было тягостно думать о передаче во власть Чехословакии этой местности. Над всем лежал дух обветшалости. Крыша конвента выглядела составленной из кусочков, потому что её отремонтировали разными новыми кирпичами. Во время войны мы восстановили большую картину на потолке в зале прелатуры, и туристы могли видеть её за скромную входную плату. Все здание разделили на маленькие квартиры; тут и там из окон видны были дымящиеся трубы печей.
К нашему удивлению, мы обнаружили, что церковь в стиле барокко и семейный склеп Меттернихов были свежевыкрашенны и находились в наилучшем состоянии.
В Кёнигсварте мы слышали: «Канцлер, очевидно, велел похоронить и своих внебрачных детей в семейном склепе в Плассе». – «Кого, например?» – «Графа Роже Альтенбурга». – «Он был сыном Виктора Меттерниха, и его дедушка, канцлер, относился к нему всегда как к члену семьи». – «Очень интересная новая версия». – «Не новая версия, а правда. Мы знаем это точно», – твердо сказала я.
Слегка стеклянный взгляд говорил о том, что я не убедила, и я поняла вдруг, как быстро переворачиваются исторические факты, если каждый историк настаивает на том, будто он открыл «новые версии».
Мы ездили и ходили кругом, но недолго. Всё стало нам здесь ещё больше чуждым, чем в Кёнигсварте; может быть, ещё и потому, что деревня сильно разрослась, сюда переехали многие бывшие жители Пльзеня.
Несколько месяцев спустя по нашему совету совершили поездку в Кёнигсварт и Пласс наш лесничий Добнер со своей чешской женой. Мы подготовили его к тому, что такая встреча будет болезненной, но что после неё он почувствует себя освобождённым.
Добнер ушёл в 1945 году пешком, а возвращался теперь туда как зажиточный господин, в собственной машине; он выглядел на много лет моложе, чем его чешские сверстники.
Он с грустью сказал, что сожалеет, что не снесли тогда несколько избушек, которые больше не использовали: людей, которые работали раньше в имении, разместили в них, не сделав даже ни малейшего ремонта. Кто достиг пенсионного возраста, того бросали, как бесполезный мусор.
Павел был прав: увидеть всё ещё раз было то же, что закрыть книгу, перевернув последнюю страницу.
Прошло много лет: годы холодной войны, годы предательства и уступок. Высокомерно утверждалось: «народы заслуживают того правительства, которое ими правит», или, как писал в 1987 году корреспондент Newsweek: «советские русские в большинстве своём совершенно довольны своей системой».
По дороге домой из долгой поездки по огромной стране я прочитала это в Москве. Было ли это ослепление, бесконечное незнание или целенаправленная дезинформация? Во всяком случае это соответствовало тому, что сообщали на Западе. С немногими исключениями, ни интеллигенция, ни средства массовой информации не сообщали о глубочайшем убожестве и как экономическом, так и экологическом разрушении во всех подчиненных коммунизму странах.
Когда мой муж стал президентом FIA (Международной автомобильной федерации), мы ездили по всему миру, также по Средней и Восточной Европе. Кто знал времена нацизма, тому было легко найти правильный тон с местными жителями и понять их растущую ненависть к подавляющей системе, навязанной им после Второй мировой войны.
Между тем правительства этих стран из года в год всё сильнее отгораживались от народа; казалось едва ли возможно проломить этот бетонный потолок.
И вот пришло время чудес. Так много слёз, так много молитв соединились в мощный натиск протеста и отвержения, который и смёл прогнивший мир коммунизма.
До осени 1989 года железной идеологии удавалось с помощью всё пронизывающего контроля держать всю систему. Вдруг, как прорвавшийся нарыв, события последовали, подобно взрыву, в одной стране за другой. Когда продолжалось опасное свержение беспощадных режимов насилия, коммунизм пал на глазах восхищенных телезрителей всего мира. Это было более захватывающее зрелище, чем любое другое.
Удивительным образом нигде, кроме Румынии, не было кровопролития.
Всё началось с мужественного развенчания Хрущёвым мифа о Сталине. Затем он разрешил издать повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но партия цеплялась за свою власть, и это породило реакцию. За Солженицыным стали наблюдать, преследовать, его бумаги были конфискованы, но ничто не могло отпугнуть его от личной войны против идеологии, разрушившей Россию.
Одна за другой выходили за границей его разоблачительные книги. Они были написаны на листовках, запрятаны в самые удивительные места и поодиночке переправлены за границу.
Одна из его сотрудниц была найдена повесившейся в своей квартире в Ленинграде: она сказала, где был спрятан экземпляр «ГУЛАГа». Но книга уже находилась за границей и вскоре должна была действовать как бомба среди коммунистической интеллигенции.
ГУЛАГ нельзя было больше отрицать.
Хотя машина убийства была уже описана более чем в двадцати книгах и до Солженицына, эти свидетельства отметали или отвергали: «Авторы предвзяты». Но после «Ивана Денисовича» и присуждения его автору Нобелевской премии – с некоторым колебанием, – но, может быть, прежде всего из-за безошибочно избранной цели его одинокой борьбы с «силами мрака» (как он их называл), не замечать Солженицына было больше невозможно.
Для Горбачёва, когда он пришёл к власти, умнее всего было всё отрицать: «Это были не мы!». Отсюда возникла «гласность». Но открыть ящик Пандоры, выпустить джинна из бутылки, означало потерять возможность управлять им. Идеология развалилась как карточный домик, и рычаги власти выпали из рук коммунизма, который стал мёртвым конем, и ни пышущий ненавистью Кастро, ни Илиеску в Румынии не были в состоянии вновь оседлать его.
Горбачёв внутри России ещё цеплялся за партийные структуры. Но каким бы нерешительным реформатором в собственной стране ни был Горбачёв, во время своей последней встречи с Хонеккером в Берлине, после ритуальных партийных объятий и непременного похлопывания по плечу, он объявил: «Кто опаздывает, того наказывает жизнь».
Это веское изречение означало «никакой расправы», и когда Хонеккер попытался предпринять нечто подобное в Лейпциге против массовых демонстраций,