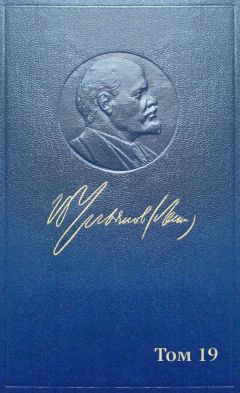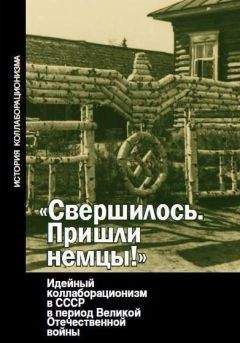Письмо А. К. Чертковой к нам от 8 октября.
«Милые друзья, Александр Борисович и Анна Алексеевна! Ну вот, наконец вчера — по приглашению Л. Н. — Владимир Григорьевич был в Ясной, первый раз после двух с половиной месяцев разлуки с Л. Н. Виделся с Л. Н. в его кабинете. Софья Андреевна не показывалась, но дочери говорят, что сильно волновалась. Отношение ее к Владимиру Григорьевичу продолжает быть то же, что и все время, — враждебное, но уступила она, или предложила сама Л. Н. ввиду его болезни и желания хоть чем‑нибудь загладить свою вину перед ним.
Л.Н. еще слаб, но уже выезжает верхом и хотел быть у нас сначала, но она поставила условием, чтобы Владимир Григорьевич первый приехал в Ясную, а иначе она поднимет опять историю и не пустит Л. Н. к нам… Ни логики, ни справедливости нет в этом условии. Кроме того, были еще некоторые унизительные условия, на которые Владимир Григорьевич не хотел соглашаться и потому сначала отказался приехать. Но, узнав, что его отказ огорчил Л.H., вчера решил поехать… Бедный Л. Н. очень обрадовался и очень благодарил за приезд и обещал приехать к нам скоро.
Нам рассказывали, что его обмороки (о которых я сообщала) сопровождались ужасными конвульсиями, особенно в ногах, происходившими от закупорки сосудов при остановке кровообращения, и могли, говорил доктор из Тулы, кончиться вдруг кровоизлиянием и смертью или параличом. Говорят, вид припадка был ужасный и повторился пять раз в продолжение от 6 до 12 ч. ночи…
Однако на прежние частые и свободные свидания со Л. Н. мы уже не надеемся: вероятно, будем видеться только изредка.
Надеюсь, что не посетуете на меня за то, что это время делилась с вами откровенно тем, о чем душа болит. Всего хорошего. Анна Черткова».
Разговор Софьи Андреевны с Ф. 13 октября.
— Я жить больше так не могу, отравиться совсем не так трудно. Легче, чем жить постоянно под угрозами, что тебя сделают сумасшедшей по приказанию Черткова, как Л. Н. по его приказанию отнял у меня дневники, отнял права на сочинения и теперь сделал окончательное завещание. Я это знаю наверное, — так возбужденно и взволнованно говорила мне Софья Андреевна.
— Кто же вам это сказал? Зачем вы слушаете? Мало ли, что вам говорят и только вас расстраивают.
— Нет, напротив, я многое узнала и не со слов, а из книжки Л.H., которую я нашла в сапоге. Я разбирала белье, как всегда это делаю, и у меня упало что‑то на сапоги. Я подняла и увидала в сапоге книжечку, и, конечно, я ее взяла и прочла. Это восхваление Черткова и ругань меня. Есть и о завещании. Но о завещании говорили мне и другие. Говорили, что будто бы сначала Л. Н. хотел созвать семью и объявить ей свое желание, но, вероятно под давлением Черткова, раздумал и теперь скрывает это от меня. Так жить нельзя: надо мною вечно поднятый кинжал, которым Л. Н. мне грозит. Потому‑то я и хочу поскорее кончить издание и пустить его в продажу; уж тогда у меня никто не сможет его отнять. Но Л. Н. может сделать так, что завещает все права Черткову и умрет, и я застряну с своим изданием. Я не могу пережить той злобы, которая будет после его смерти. Мы возьмем, конечно, верх, докажем его обмороки и слабоумие, и, конечно, восторжествуют обиженные, но каково же переживать эти ссоры, суды!.. За что он обижает детей? Я про себя уж не говорю. Я могу сейчас если не продать, то заложить дом, и у меня опять будут деньги. Саша не интересуется, у нее сто тысяч, с нее довольно.
— Она не корыстолюбива.
— А я, разве я корыстолюбива? Самой мне ничего не нужно. Да, а потом Таня мне проговорилась. Не нарочно, а нечаянно проговорилась. Как же я могу жить под этим кинжалом? Это меня все время гложет. А спросить у него я не могу. Я ему сегодня говорила — он все молчит, но не отрицает. А если я его спрошу, оставит ли он мне права на мое издание, он мне наверное скажет, что ничего не обещает. Так что же спрашивать? Да что говорить! Опию много, на тридцать отравлений хватит; я никому не скажу, а просто отравлюсь. Это все влияние Черткова; сам бы он никогда этого не сделал.
14 октября. Из письма А. П. Сергеенко ко мне.
«…Софья Андреевна опять неистовствует. Л. Н. сегодня слаб. Бывшая у нас днем Александра Львовна говорила, что можно ожидать опять припадка…
Владимир Григорьевич сегодня написал Л. Н. письмо, умоляя его уехать в Кочеты. Александра Львовна два раза говорила об этом Л. Н. Он не сказал ни да, ни нет. Но он, кажется, решил уехать. На письмо Софьи Андреевны к нему он сказал ей: «У мужа могут быть дела, в которые он не считает возможным посвящать жену», и потому он ничего ей не будет отвечать.
Владимир Григорьевич в очень спокойном и серьезном настроении.
Вот пока все, что могу Вам сообщить.
Если положение дел будет все ухудшаться, то буду извещать Вас ежедневно…»
Письмо Л. Н. к В. Г. Черткову от 17октября.
«Хочется, милый друг, по душе поговорить с вами. Никому так, как вам, не могу так легко высказать — знаю, что никто так не поймет, как бы неясно, недосказанно ни было то, что хочу сказать.
Вчера был очень серьезный день. Подробности фактические вам расскажут, но мне хочется рассказать свое — внутреннее.
Жалею и жалею ее и радуюсь, что временами без усилия люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату, и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставенки, заставляла окна, возилась, хлопотала о моем… телесном покое. Что ж делать, если есть люди, для которых (и то, я думаю, до времени) недоступна реальность духовной жизни. Я вчера с вечера почти собирался уехать в Кочеты, но теперь рад, что не уехал. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе очень хорошо. И от этого‑то мне и хочется высказать вам, что я думаю, а главное — чувствую.
Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть, месяцы, годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта‑то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче, и буду стараться удержать до смерти, меня особенно радует, и вам—το мне и хочется передать его.