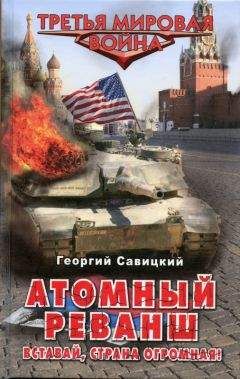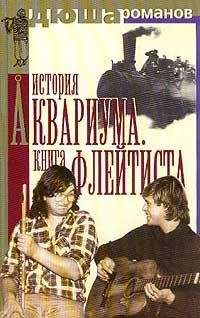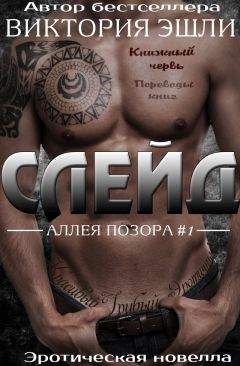- Заткнись, Двести Тридцать! Какая разница, что он там нес!
- Не заткнусь. Не заткнусь.
- Ты нас всех подставляешь, гнида! – кричат ему шепотом.
- Тебе что, не хочется знать, кем они были?
- Мне вот не хочется! – снова первый. – Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть навсегда! И ссытесь от страха себе в койку, сколько угодно!
Я узнаю этот голос – решительный, высокий, детский.
Это мой голос.
Снимаю с глаз повязку и нахожу себя в маленькой палате. Спальные нары в четыре яруса вдоль белых стен; по нарам распиханы ровно девяносто восемь детских тел. Мальчики. Все тут или спят, или притворяются. Повязка на глазах у каждого. Все помещение затоплено слепяще ярким светом. Невозможно понять, откуда он идет, и кажется, что сияет сам воздух. Сквозь закрытые веки он проникает с легкостью, разве что окрашиваясь алым от кровеносных сосудов. Надо быть чертовски измотанным, чтобы уснуть в этом коктейле из света и крови. Освещение не гаснет ни на секунду: все всегда должно быть на виду, и нет ни одеял, ни подушек, чтобы спрятаться или хотя бы прикрыться.
- Давайте спать, а? – просит кто-то. – И так до побудки уже всего ничего осталось!
- Вот-вот. Заткнись уже, Семьсот Семнадцать! А если они и правда все слышат?
Я смотрю на Тридцать Восьмого, вихрастого рыжего пацана – он тоже стащил с глаз повязку и зло пялится на меня в ответ.
- Ну ты и ссыкло! – усмехаюсь я. – А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою…
И тут дверь распахивается.
Тридцать Восьмой как подкошенный валится в койку лицом вниз. Я начинаю было натягивать повязку – но не успеваю. Холодею, застываю, вжимаюсь в стену, зачем-то зажмуриваюсь. Мои нары – нижние, в самом углу, от входа меня не видно, но если я сделаю резкое движение сейчас, они точно заметят неладное.
Я жду вожатых – но шаги совсем другие.
Мелкие, легкие и какие-то нарушенные – шаркающие, немерные. Это не они… Неужели Девятьсот Шестого наконец выпустили из чулана?
Я осторожно разожмуриваюсь, выглядываю из своей норы.
Встречаюсь взглядами со сгорбленным обритым мальчонкой. Под глазами у него черные тени, одной рукой он бережно придерживает другую, неловко повернутую.
- Двести Пятнадцать? – не верю своим глазам. – Ого! Тебя из лазарета выписали? А мы думали, они тебя на собеседовании совсем ухайдокали…
Его запавшие глаза округляются, он беззвучно шевелит губами, словно пытается что-то сказать мне, но…
Я подаюсь вперед, чтобы расслышать его, и вижу…
…застывшую в проеме фигуру.
Вдвое выше и вчетверо тяжелей самого крепкого пацана в нашей палате. Белый балахон, капюшон накинут, вместо собственного лица – лицо Зевса. Маска с черными прорезями. С перехваченным дыханием я медленно-медленно втягиваюсь назад, в свою нишу. Не знаю, видел ли он меня… Но если видел…
Дверь захлопывается.
Двести Пятнадцатый пытается залезть на свою полку – третью снизу, но никак не может этого сделать. Рука у него, кажется, перебита. Я смотрю, как он делает одну попытку, морщась от боли, потом еще одну. Никто не вмешивается. Все лежат смирно, ослепленные своими глазными повязками, притворяясь крепко спящими. Все лгут. Во сне люди храпят, постанывают, а самые неосторожные еще и разговаривают. А в палате стоит душная тишина, в которой единственный звук – отчаянное сопение Двести Пятнадцатого, который пытается забраться на свое место. Ему это почти удается, он хочет закинуть ногу на кровать и неловко поворачивает кисть; вскрикивает от боли и падает на пол.
- Иди сюда, – зачем-то говорю я. – Ляг на мою койку, а я на твоей досплю.
- Нет, – он ожесточенно мотает головой. – Это не мое место. Я не могу. Это не по правилам.
И лезет снова. Потом, бледный, садится на пол и сосредоточенно потеет.
- Тебе сказали, за что тебя? – спрашиваю я.
- За то же, за что и всех, – он криво пожимает плечами.
Взвывает сигнал «Подъем».
Девяносто девять мальчишек срывают с себя повязки и сыплются с нар на пол.
- Помывка!
Все стягивают с себя пижамы с номерами, комкают одежду, зашвыривают ее на свои полки, соединяются в тройную цепь и, пряча в пригоршнях свои стручки, зябко жмутся, дожидаясь, пока не откроется дверь – а потом бледной гусеницей ползут через санитарный блок.
По трое мы проходим через душевую арку и, мокрые, голые, мнущиеся, выстраиваемся в зале. Здесь наша щербатая сотня, и еще одна, и еще – две старших группы.
Вдоль нашей тройной шеренги тяжело шагает старший вожатый. Его глаза так глубоко утоплены в пробоинах зевсовых глазниц, что кажется, будто их там нет вовсе, что маска надета на пустоту.
- Дрянь! – надрывается он. – Вы жалкая дрянь! Чертово семя! Ваше счастье, что мы живем в самом гуманном из государств, иначе вас давно передавили бы всех по очереди! С такими преступниками, как вы, в каком-нибудь Индокитае не церемонятся! И только здесь вас терпят!
ОТРЫВОК 7 - Кино
Передо мной – дом под прямой крышей. Он весь составлен из параллелепипедов и кубов, и вовсе не похож на сказочные домишки из сладких детских анимашек. Простые, строгие формы. Но мне он почему-то кажется ужасно уютным – может быть, из-за огромных, в половину стены, окон. Или дело в желтом кирпиче, которым облицованы стены, или в дощатой коричневой веранде под навесом, которая окружает его по периметру.Несмотря на свою прямолинейность, свою угловатость, он манит меня своей мягкостью и теплотой. Этот дом обжитой – и потому живой.
Перед ним – ухоженная лужайка; в подстриженной траве стоят два забавных одноместных гамака: яйцеобразные плетеные кресла подвешены на долгих изогнутых ножках, качаются в такт. В одном – мужчина в полотняных штанах и льняной рубахе, ветерок перебирает пшеничные волосы, дым от самокрутки тонко вьется, размывается порывами. В другом сидит, подтянув загорелые ноги, молодая женщина в легком белом платье, потягивает из бокала бледное вино и строчит что-то в небольшой гаджет – старинный телефон.
Их в этом мирке двое, но угадывается присутствие и еще кого-то. Внимательный зритель, задержав стоп-кадром панораму, заметит брошенный в траву велосипед, слишком маленький и для курящего мужчины, и для девушки с телефоном. Растянув картинку, в приближении найдет на крыльце детские сандалии. И еще: рядом с женщиной в кресле-яйце сидит игрушка – пушистый белый медведь. На одном из кадров, если присмотреться, можно даже разглядеть серебряные ягоды-глаза на удивленной мордочке. Медведь не движется, это не эко-пет, просто мягкая игрушка. Тем удивительней, что девушка подвинулась ради него, чтобы медведь мог тоже сидеть в кресле, что она, как живого, прикрыла его рукой, беря под свою уютную защиту.