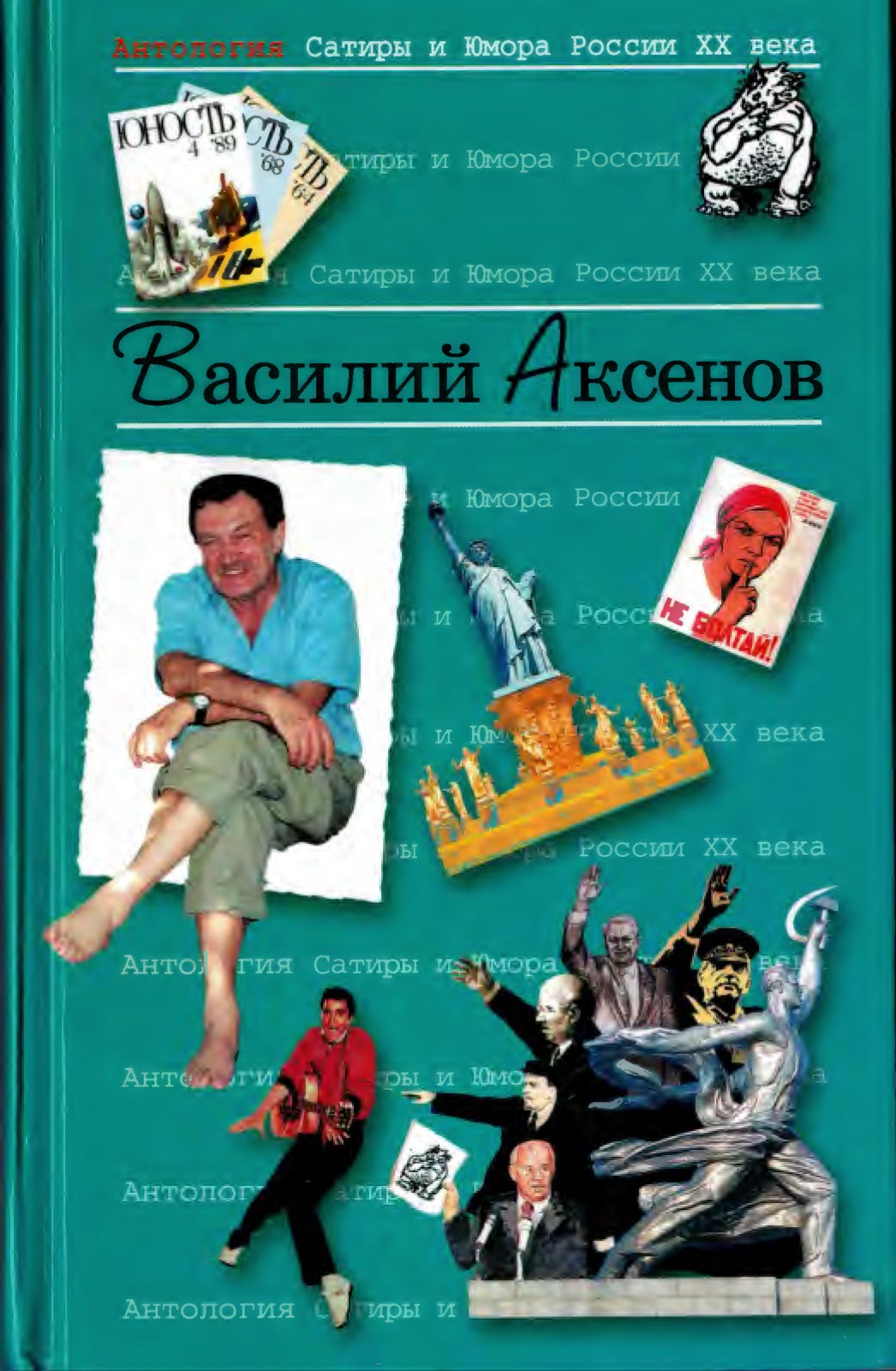ни писать, ни читать, так мои ее уму-разуму учили. В смысле, буквы с ней разучивали, и как из них слова складываются. Зато она их чему другому учила. Она, например, травы лучше меня знает. Такие чаи из них составляла, не передать! А пирожки какие готовила! Мне ни в жисть такие не удавались. А то вдруг возьмет и заговорит на незнакомом тарабарском языке. Такая удивительная у тебя сестра.
Но если ты думаешь, что это все ее странности, так нет. Не все.
Вон там, – Агафья указала рукой на красный угол, – карточка Федора, мужа моего, стоит. Так она посмотрела только на нее и говорит: нет, не погиб он. Живой, говорит, ваш супруг, только он в неволю попал. Он освободится и вернется к вам, но не сразу, надо подождать. Где в плену, у кого, – про то не сказала. Ждите, говорит, может и несколько лет. Ждем, что делать. Детям без отца плохо. А жена без мужа не жена.
Несколько дней так посмотрела она на наше житье-бытье, и призадумалась. О чем, не ведомо. А после стала разговаривать с кем-то невидимым. Мне про то дети сказали, я сама не видала. Поговорила она так невесть с кем, потом веник взяла и чисто всю избу вымела. Тут уж я пришла. Увидела ее за работой, похвалила. Молодец, говорю, и упрашивать тебя не нужно, сама все делаешь. А она мне и отвечает: вы потому так трудно живете, что приходит к вам в дом серый злой человек. Вы его видеть не можете, а он тем и пользуется. Он вашим счастьем и вашим достатком питается. Раньше, говорит, питался, но больше не будет. Я ему, говорит, дорогу в ваш дом заказала, да следы его замела. Вот так. Хошь, верь, хошь нет, но только с того дня жизнь наша стала и светлей, и сытней. Будто достатку прибавилось! Я, к слову, тебя поначалу за того серого приняла. Думала, опять вернулся, аспид, кровушку нашу пить.
– Вот оно в чем дело! – удивился Бармалей. – А что? Неплохой способ устранить проблему, правда, немного радикальный. Но я вроде бы вполне себе видимый. Разве нет? Меня и потрогать даже можно.
– Так-то так, но кто его знает? Только я решила: не пущу! А потом смотрю: таки да, вполне себе добрый молодец. Ну, и...
– Осмотрительность, весьма положительное свойство, хозяйка.
– А то!
– Что же дальше было? Сказывай!
– Дальше... Дальше чудеса не прекращались. После очистки дома, взялась Марфуша за сарай, где у нас корова содержится. Это я уже сама частично видела, своими глазами наблюдала. Пошла она в сараюшку, метлу взяла и давай выметать из всех углов, опять же, как и в доме. Тем временем с кем-то все разговоры она вела, на непонятном языке. А потом игру странную затеяла, будто нянчит кого-то. И все того, кого нянчит, поросёночком называет. Ну, я насмотрелась... Дверь-то в сараюшку настежь, я и заглядываю. Странная все-таки девка, думаю. А она нанянчилась, сказалась, что спать хочет и ушла, а наутро в сараюшке поросеночек-то и появился. Откуда? Как? Неведомо! Я к ней с расспросами, а она лишь улыбается. А в ответ еще сказала, что, мол, весной у вас и теленочек от коровки случится. Со звездой во лбу! Так и сказала. Ну, думаю, девка, блажишь ты! Не может теленочек просто так появиться, если корову бычку не предоставить. А мы ведь ее еще не сводили! Да... А следующим днем ветеринар, коровий доктор к нам заглянул, я его еще раньше приглашала, чтобы буренку нашу проверил. Он и проверил. Говорит, тяжелая. Ждите весной приплода. Вот и как тут не поверить в мистику? В волшебство кондовое? Ждем теперь теленочка и откармливаем поросенка. Поросенка, уж прости, Борькой величают. Это Марфа ему такое имя подгадала.
– Отличное имя! – согласился Бармалей. – Значит, не забывала она обо мне. Это радует.
– И я про то. С того момента слух по округе прошел, что, мол, девчонка моя коров врачует. Не знаю, кто пустил его. Может, коровий доктор, он тоже озадачен был. Но и это еще не все! К самому главному подходим. Но об этом чуть позже, сначала надо белобрысиков спать уложить. А то, ишь, уши развесили, да глаза таращат, а сами квелые, сонные. Ну-ка, детвора, спать все! Живо!
Удивительно, но никто из детей с матерью спорить не стал. Быстро все рассосались по местам своим спальным, и вскоре в доме стало тихо-тихо. Только ходики самоходные продолжали мерно тюкать бронзовыми молоточками, отмеряя остаток ночи до утра.
Агафья Никитична пошла, проверить, как да что, не балует ли кто из деток, да не раскрылся ли ненароком. По дороге она свет во всем доме приглушила, чтобы белобрысиков ее не беспокоил, только подле стола одна лампа теплая под абажуром осталась. Принесла она с собой, вернувшись, бутылку зелена-вина, на стол поставила.
– Давай, – сказала Борису, – выпьем с тобой по чарочке. А то разговор такой складывается, на сухую его не осилить.
Ну, выпили. Агафья ничего, а Бармалей крякнул, закашлялся.
– Ох, и вино у тебя, хозяйка! – сказал с уважением. – Забористое! Но приятное. Сама, что ли, делала?
– А то кто же? Все сама. На травах правильных да на кореньях. Вино, как любовь должно быть: голову кружить, душу радовать, тело – баловать. Ты, закусывай, молодец, закусывай. – Она придвинула к нему ближе блюдо с остатками пирога. – И слушай дальше. Уж, коль взялась я сказывать, так до конца сказ доведу. А и осталось немного.
Примерно через неделю после того, как ветеринар корову осматривал и определил, что она стельная, случилось вот что, – продолжила рассказ Агафья. – Заболела я вдруг. То ли застудилась, то ли издавна во мне хворь эта зрела – не ведаю. Только дюже мне погано сделалось. Жар такой со мной случился, что одежда на мне едва не дымилась. А не дымилась потому, что мокрая была насквозь, все от того же жара. Такое. И еще, что-то страшное на горле вспучилось, опухоль, будто жаба огромная, и так она меня придушила, что я и дышать перестала. Чувствую, все, конец мой. До утра не доживу.
Сбегали за фельдшером. Тот пришел, посмотрел, пощупал, говорит – завтра с утра в больницу повезу. А сейчас нечем тебя везти, машины нет. Терпи! Какой, терпи! Я же чувствую: вот-вот отойду! Ой, горюшко,