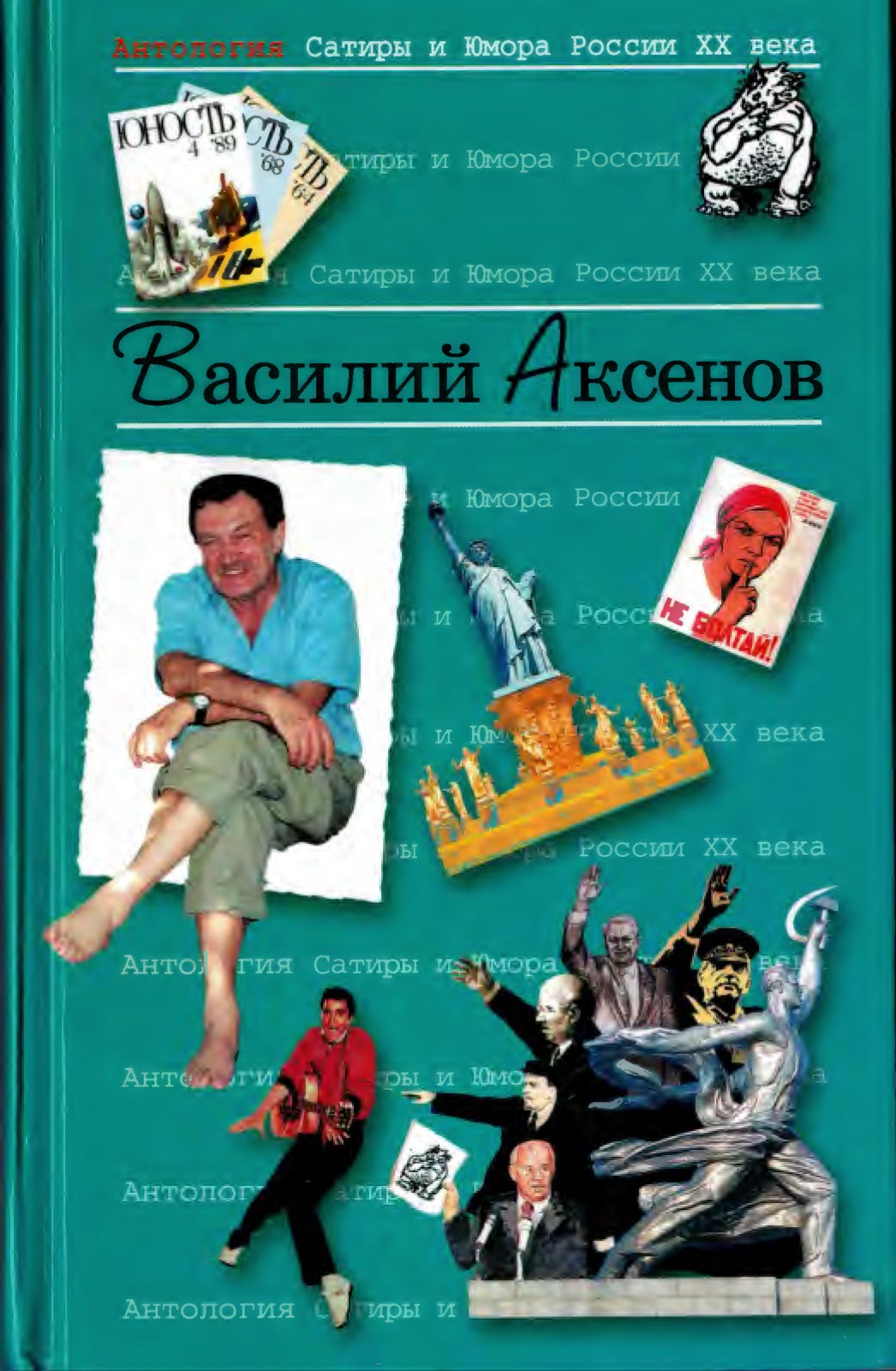думаю. А как же мои белобрысики? Кто им без меня пироги печь будет? Кто им слово доброе скажет? Ой, у меня сердце тут же едва надвое не разорвалось.
В общем, ушел фельдшер. Оставил помирать, ага. Тут ко мне Марфушка подходит, лицо странное у нее, будто деревянное. Как маска, вот. Глаза серьезные такие, светятся угольями. Приносит тряпицу, водой, вроде, смоченную, и ту тряпицу мне на горло, прямо на ту жабу, накладывает. И сверху руками прижимает. Лежи, говорит, смирно, тетка Агафья, не двигайся. Я, говорит, рядом посижу. Да какой двигаться мне было! У меня глаза-то сами и закрылись, я и отключилась. Боль, однако, тут сразу и унялась, отступила. Будто стакан зелена-вина я выпила, так хорошо стало и легко. И я заснула, глубоко, точно умерла.
До утра проспала – ничего не помню. А утром проснулась здоровая, ни опухоли, ни жара, ничего. А ты говоришь...
– Что я говорю? – удивился Бармалей. – Я вот, пирог доедаю. Вкусно, между прочим.
Агафья вздохнула, воспоминания ее были не легки.
– Да это я так. Взгрустнула. В общем, благодаря твоей сестрице белобрысики мои круглыми сиротами не остались. И вот тогда, после этого случая пригляделась я к Марфутке пристальней. До того видела лишь то, что она всем показать хотела, а теперь кое-что истинное.
– Что истинное? Не понимаю.
– Она ведь все маленькой девочкой представлялась, да я так о ней и думала, что едва ли она старше моих старшеньких. Ну, как-то могла она такой обман навести. А тут после болезни моей истопила я баньку. Думаю, надо смыть с себя все, что от хвори осталось. Ну, а перед собой ребятню помыться пустила, и Марфа тогда с ними пошла. А я ведь своих все еще сама мою, особенно младшеньких. Вот и захожу, как обычно, чтобы помывку сделать, и тут Марфу увидала, голенькую, и все сразу поняла. Не-а, думаю, никакая ты не девочка уже. Ты – невеста. А и то, у нее и грудки наливные, как яблочки. Белый налив яблочки есть, сортовые, слыхал? Вот, у нее такое же. И волосики имеются золотые, где положено им быть. Али я не знаю, как баба выглядит? Моим деткам до нее еще лет пять, а то и больше взрослеть. А ты говоришь, сестра...
– Да, сестра, правду говорю! – загорячился против разоблачения Борис. – Мы ведь с ней детдомовские. Я-то выпустился, потому как старше, а она осталась еще. Я думал, устроюсь и заберу сестру к себе. Но она же странная, ты сама видела. Вот ее из-за странности ее в больницу и определили. А она оттуда – раз! – и сбежала. И никто ничего не знает. Вот и ищу теперь повсюду.
– Да я же не против, – согласилась Агафья. – Сестра, так сестра, мне все равно. Я ведь вижу, что ты ей зла не причинишь. Только, Бориска, нет твоей Марфушки здесь больше. Нет.
– Куда же она подевалась?
– Вот и мне любопытно. Ты дослушай историю до конца, может, сам что поймешь. На следующий буквально день после баньки той памятной, забеспокоилась вдруг Марфушка, сама не своя стала. Ой, говорит, Агафья Никитична, чую я нехорошее. Я говорит, пойду в сарай к коровушке, а вы тут гостя встречайте. Будет про меня спрашивать, вы не запирайтесь, отвечайте, что спрашивает, чтобы он вам горя не причинил, а то он может. Все ему расскажите. А попросится, так вы его и в сарай сведите. Глянула на меня, будто прощения просит, и пошла.
Я ничего не понимаю. О чем она говорит, о ком? Когда слышу, собаки лай подняли, пугают кого-то. Я выхожу, перед воротами старик стоит. Странный, страшный. В тулупчике распахнутом, ноги босые, черные. Это зимой-то! Шляпа на нем высокая, с полей ее сосульки свисают, и звенят так заунывно, друг о друга бьются. Дзинь-дзинь... Волосы длинные седые, борода до пояса, а взгляд из-под бровей такой тяжелый, будто камень могильный. И к тому еще клюка в руках. Он как меня увидал, клюку свою поднял и ну ей потрясать. И вдруг страшно так завоет:
– Уууууу!
И вижу я, как от той палки его синий туман заструился, да через забор и во двор. Весь его и наполнил, как вода корыто. А когда до меня добрался, поняла я, что не туман то, а мороз. На самом деле и не мороз, а стужа лютая. И, чувствую, еще чуток, и душа моя из тела замерзлого улизнет в те края, где тепло. Но старый до смертоубийства не довел дело, палку наземь опустил, и туман рассеялся. Только иней в воздухе серебрится да, падая, двор ровным слоем покрывает.
– Где, – спрашивает он строго, – внучка моя, Снегурка? Я все вижу, все знаю! Отвечай!
Ага, думаю, внучка. То-то она от такого дедушки бегает. А сама, как Марфа, учила, отвечаю кротко: в сараюшке, батюшка, при коровке. Только, говорю, никакая она не Снегурка.
– Веди, – говорит, – показывай! Разберемся.
И не просит, а велит же! Такому и отказать невозможно. Я собак уняла, а дедушку этого к сараю проводила. Вместе мы туда зашли, а там и пусто, нет никого. В смысле, Марфы нет, только коровка да поросеночек. Старик носом воздух потянул и говорит: да, ушла внучка. Опять обвела деда вокруг пальца. Но, говорит, ничего, я ее все одно найду. От меня, говорит, не скроешься.
Вышел он, когда за ворота, ко мне оборотился, и говорит:
– Что внучку мою привечала, молодец. А в том, что она ушла, твоей вины нет, так что живи, как жила, как живется. Но и обо мне не забывай!
И пошел. Босиком пошел, по снегу. И туман его синий морозный за ним потянулся. Тут собачка одна не выдержала, выскочила за ворота и за стариком бросилась с лаем. Он, не останавливаясь, собачку только клюкой своей тюкнул, и она свалилась замертво. Убил! Заморозил! И, будто ничего не случилось, пошел себе. Только звон за ним завивается, сосульки его звенят.
Я потом сама бросилась Марфутку искать, ан нет нигде. А за сараюшкой поле снежное, и ни следочка на нем! Не могла она по нему от старика злого уйти! Не могла! Однако ушла, факт! Так я и не поняла, куда тогда Марфутка делась. Исчезла, и нет ее. И, может, не Марфутка она, а Снегурочка? Тогда еще больше вопросов остается. Не знаю я, что