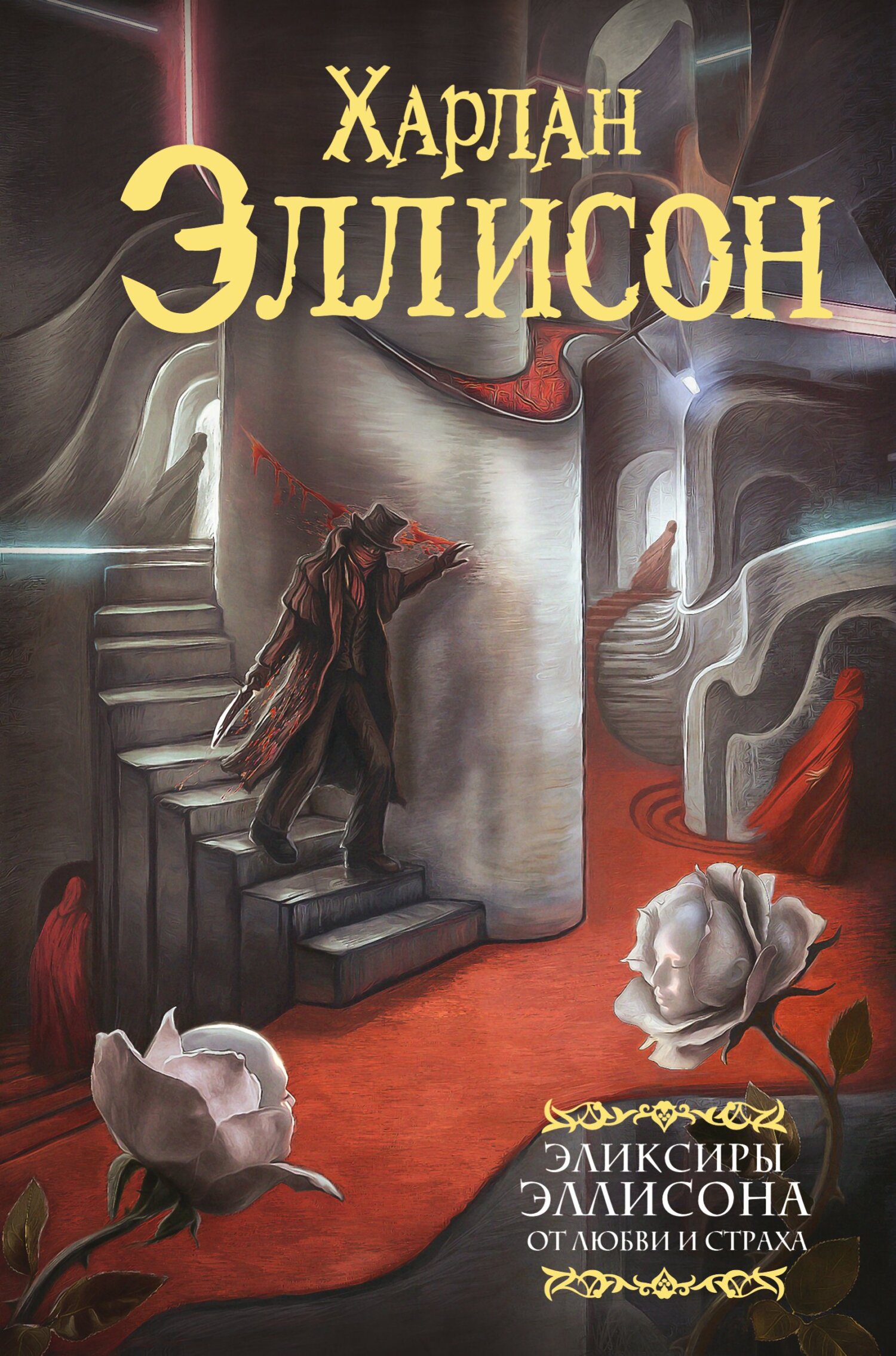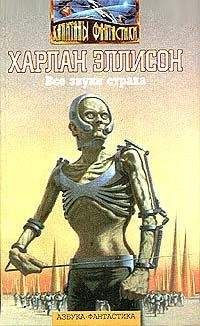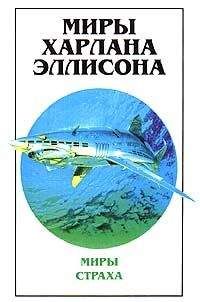В их рядах я увидел и своего приятеля, убийцу молотком; он трусил в паре с юнцом лет семнадцати, максимум восемнадцати. Парень то и дело с опаской косился на своего спутника. Похоже, такое соседство пугало его до потери рассудка. Вот вам и еще преступление Катакомб, заботливо упакованное для всякого, кто хочет на такое посмотреть.
Вертухай отпер дверь, оставив ее раскрытой настежь, и вернулся к столу для снятия отпечатков, сообщая тем, кому перепачкали чернилами руки, в какую камеру им следовать дальше. Я сорвался со скамьи и пересек пятьдесят футов, отделявших камеру от стойки, за которой сидел капитан – благополучно миновав ту точку, где меня в прошлый раз перехватил Тули.
Я начал говорить – быстрее, чем мне приходилось говорить прежде, потому что местная жизнь располагала к быстрому изложению. Не помню точно, что я говорил, но что-то вроде этого:
– Капитан, меня зовут Харлан Эллисон, Эллисон, я ожидаю, что мой агент, моя мать и несколько друзей внесут за меня залог в ближайшие несколько минут, совсем скоро, и бог свидетель, я не могу оставаться в той клетке, у меня клаустрофобия, и если я останусь в этой чертовой клетке хоть на минуту, у меня поедет крыша, и деньги, они вот-вот будут здесь, и вообще, возможно, бумаги на мое освобождение уже у вас, и если вы позволите мне посидеть на этой вот скамье, богом клянусь, я не доставлю вам никаких хлопот, и вам не придется меня искать, когда придут бумаги, так что бла-бла-бла…
То ли его тронул мой невинный, чтобы не сказать простодушный, вид, а может, его просто утомил мой лепет, или он знал, что меня должны скоро освободить, но он зажал уши руками и тряхнул головой, словно говоря, ладно, ладно, можете посидеть на скамье, только заткнитесь и не мешайте мне работать.
Он махнул рукой на дальний конец скамьи.
– Валяйте, – сказал он, и я ринулся к скамье так, словно это был спасательный плот в штормовом море. Я присел на ее краешек, на самый краешек, чтобы никто не мог спутать меня с преступником, ожидающим отправки в камеру.
Мимо проходил Тули; он бросил короткий взгляд на мою побледневшую, перепуганную физиономию и направился ко мне.
– Капитан, капитан разрешил мне посидеть здесь, – торопливо забормотал я. – Капитан! Спросите капитана!
Он подошел к капитану и переговорил с ним вполголоса. Капитан сказал ему что-то резкое, Тули пропустил это мимо ушей, сказал что-то еще, и капитан взмахом руки отослал его прочь. Тули ушел, бросив на меня полный ненависти взгляд.
На некоторое время я оказался свободен.
Время в тюрьме не движется. Это едва ли не самая шокирующая истина из тех, что я узнал здесь. Оно не ползет, оно не растягивается – оно вообще не шевелится. Здесь нет часов – ни наручных, ни настенных, так что нет возможности вести отсчет минутам, и даже если ты спросишь время у охранника, он все равно не ответит. Поэтому ты не знаешь, что сейчас: полдень, или время чаепития, или пора обедать, или уже вечер и скоро стемнеет. Чувство времени атрофируется очень быстро – особенно здесь, в подземельях Катакомб. Человек задремывает и просыпается спустя секунду с ощущением того, что прошло три или четыре часа. По прошествии нескольких первых часов, на протяжении которых ощущение новизны от перемещений туда-сюда притупилось, мне начало казаться, будто я просидел в камерах не меньше недели. То есть, субъективно я провел в тюрьме гораздо больше двадцати четырех часов… это напоминало, скорее, двадцать четыре месяца.
И это блеклое, колышущееся безвременье, ощущение того, что ты выпал из пространства и времени, сильнее любого другого эффекта заставляет человека почувствовать себя бестелесным, уязвимым перед любым заболеванием, перед любыми роящимися в мозгу безумными картинами. Я могу понять, почему «тюремный психоз» у людей случается так быстро: для них прошло уже много времени.
Пока я сидел, лишенный тела, выдыхающий втрое реже обычного (так мне казалось), привели еще одну цепочку людей.
Поскольку мне все равно нечего было делать, кроме как сидеть и глазеть по сторонам, я рассмотрел их довольно внимательно. Не спеша. Я видел жуликов, бомжей, простых пьянчуг и алкоголиков с Бауэри, любителей крепленого и любителей коктейлей, тех, кто фильтрует лосьон после бритья сквозь хлебную корку, и тех, кто пьет жидкость для растопки или вообще любое пойло с градусом. В общем тех, кто на протяжении многих лет оставлял себя по частице в разных барах. Эти пали даже ниже чем простые жулики и воры. Это были самые что ни на есть отбросы человеческого общества – люди, для которых жизнь и разум утратили свой смысл. Люди с подметками из старых газет, в лохмотьях, с заплывшими лицами, пустыми глазами и хлюпающими носами, небритые и нестриженые. Безликие люди, в морщины на лицах которых намертво въелась грязь от жизни на четвереньках, в сточных канавах, в подъездах, в глухих переулках. Те, кого наше милосердное общество спустило через задний проход.
Те, кого обычно имеют в виду, спрашивая нас: «Разве не исполняем мы свой долг перед гражданами?»
Не стоит говорить, что они нашли бы работу, если бы хотели. Не стоит говорить, что они ленивы, грязны, глупы и безответственны. Не надо.
Это те люди, которых наша культура перемолола в своих жерновах, которые не смогли в нее встроиться, которые не смогли или не захотели проявить себя, и которых Система спустила в выгребную яму. Те, кого мы называем тунеядцами.
В Катакомбах их называют «уродами».
Приглядитесь к ним. Приглядитесь к по-настоящему падшим. Как легко хмурить бровь, проходя мимо них, лежащих в нише фасада, вонючих, перепачканных собственными испражнениями. Как чертовски легко смеяться над ними, позволять детям гонять их прочь. Весь ужас этого заключается в том, что та тьма, в которой они прячутся, окончательна и бесповоротна, беспросветнее любой социальной темноты, которую мы можем себе представить.
Все эти мысли мелькали у меня в голове, пока они стояли прямо перед моей скамьей. Я мог бы протянуть руку и коснуться четверых из этой цепочки – но не стал.
Они все были старики. Даже молодые. Старые, загорелые даже в сентябре. Загорелые от того, что проводили на солнце весь день. Старики в мешковатых штанах, с седыми волосами и заросшими щетиной подбородками. Можно сказать, это служило подобием униформы. Жилеты и полосатые пиджаки с широкими, очень широкими лацканами – дары благотворительных раздач, подачки занятых своими делами граждан. И обувь: гнилая, разваливающаяся на глазах обувь с подошвами, примотанными к верху скотчем. Обноски.
И их