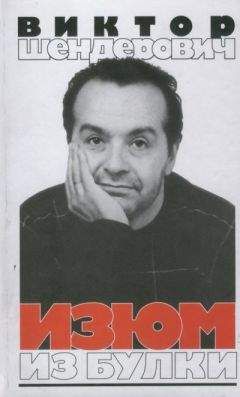Переплетал отец и лучшее из журналов: этой рукотворной библиотеки у нас в доме было больше двухсот томов — «Новый мир», «Иностранка», «Юность»… И Солженицын, и Булгаков, и бог знает что еще, гениальное вперемешку с канувшим в Лету…
Номерок каждого тома был вырезан из желтой бумаги и наклеен на торец переплета. Отец изменил бы своему характеру, если бы у этой самодельной библиотеки не было каталога с алфавитным указателем…
Когда отец учился в седьмом классе, родители подарили ему записную книжку.
— Писать было нечего, а рука чесалась, — рассказывал отец. — И я написал: «Шестое апреля. Первый день без пальто».
Рассказывая это, отец усмехался и разводил руками: такая, мол, ерунда…
Вовсе не ерунда! Пойманный солнечный зайчик, деталька в ускользающем пейзаже. Вот: отец рассказал это, и теперь я знаю, что в 1944 году в Москве потеплело шестого апреля…
Шел «Голубой огонек». Со смешным поролоновым тигром в руках (плоская гитара в тигровых лапах) два артиста-кукольника веселили передовиков труда, сидевших за столиками, и советский народ у телеэкранов.
Это было что-то вроде пародии на западную эстраду; «их нравы»…
Поролоновый тигр бил по нарисованным струнам и смешно разевал пасть; хриплый неотразимый голос в фонограмме тянул согласные и пробивал сердце насквозь.
Так я впервые услышал Луи Армстронга.
Однажды я сильно заболел, и мне из вечера в вечер читали вслух книгу в обложке морковного цвета: две повести о Ходже Насреддине. Это было такое блаженство, что не хотелось выздоравливать! В двенадцать-тринадцать лет я знал две соловьевские повести, наверное, близко к тексту.
Много позже я узнал, что автор «Насреддина» сидел в сталинском лагере вместе с моим дедом. И даже более того: был его начальником! Дед, «присевший» чуть раньше, бригадирствовал в небольшой «шарашке», когда к нему в барак определили только что посаженного Соловьева. Дед видел, что новенький, работавший в бане санитаром, что-то пишет по ночам и прячет под матрац…
Дед его не заложил, и это — наш главный фамильный вклад в русскую литературу! Писал Соловьев как раз «Очарованного принца», вторую часть книги про Насреддина…
В Рейкьявике идет матч за шахматную корону: Спасский — Фишер! Иногда мы с отцом разбираем партии. Я люблю шахматы, на скучных уроках играю сам с собой на тетрадном листке в клеточку. Делается это так: в тетради шариковой ручкой рисуется доска, а карандашом, поверху, «ставятся» фигуры. Ход делается в два приема: фигура стирается ластиком и рисуется на новом месте.
Но я отвлекся, а в Рейкьявике: Спасский — Фишер!
Какое-то время этот матч — чуть ли не главное событие в советской прессе: через день публикуются партии с пространными комментариями… Потом, по мере катастрофы, комментарии помаленьку скукоживаются, потом исчезают тексты партий… А потом я читаю (петитом в уголке газеты): вчера в Рейкьявике состоялась такая-то партия матча на первенство мира. На 42-м ходу победили черные .
А кто играл черными? И кого они победили? И что там вообще происходит, в Рейкьявике?..
Так впервые я был озадачен советской прессой.
О, это умение сказать и не сказать! Уже много лет спустя, в андроповские времена, всей стране поставило мозги раком сообщение ТАСС о сбитом южнокорейском лайнере: «на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря».
Как это: продолжал полет в сторону Японского моря? По горизонтали или по вертикали? Стреляли по нему или нет? Военный был самолет или все-таки пассажирский? Понимай, как хочешь.
А еще лучше: не понимай. Напрягись вместе со всем советским народом — и не пойми!
Август, Рижское взморье. Наша московская «колония» сибаритствует, расположившись у речки Петерупе. Друзья родителей — юристы, скрипачи, биологи, историки, математики, физики… Дядя Стасик, тетя Наташа, тетя Регина, дядя Леша…
А по «Голосу Америки» третий день передают о смерти Шостаковича: биография, рассказы современников, музыка… На советских волнах — тишина.
Трое суток в кремлевских кабинетах продолжается согласование прилагательного, положенного покойному в свете его заслуг и провинностей перед партией.
Великий он был, выдающийся — или всего лишь известный? По какому разряду хоронить? Вопрос серьезный, политический, и до его решения о смерти Шостаковича просто не сообщают!
Дома у одноклассницы Жанны Гриншпун висела карта Израиля…
Это было совершенно немыслимо! Как юный баран перед запрещенными воротами, я стоял в коридоре чужой квартиры, рассматривая нечто, чего как бы не было в природе…
Моря, горы, дороги, города… Я умел читать карту, и с фантазией все было в порядке. Внезапная мысль о том, что по этим дорогам в эти города можно приехать — не эмигрировать, боже упаси! я же советский пионер! просто приехать и посмотреть… — вдруг тайно оборвала сердцебиение, наполнив душу сладкой тоской.
Мне было тринадцать лет, и вместо бармицвы я готовился к вступлению в ВЛКСМ.
С национальным самосознанием у меня не сложилось с детства.
Девятиклассником я бывал в одном доме — там жила девушка, которая мне нравилась, и ее мама, которой нравился я. Они уезжали в Штаты, хотя считали себя сионистами.
А я был комсомолец с пионерским прошлым.
Мама девушки, желая меня вовлечь (а может, и увлечь), ставила на радиолу диск сестер Берри.
— Нравится?
— Очень, — честно отвечал я.
— Ты чувствуешь себя евреем? — спрашивала она.
— Чувствую, — честно отвечал я.
Мама девушки, которая мне нравилась, была мною довольна.
Вскоре они уехали.
Но до сих пор, когда я слышу песни сестер Берри, я чувствую себя евреем.
А когда слышу спиричуэлсы — чувствую себя негром.
«Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола
…однажды к нам попали в плен во время матча по футболу!»
Этот жуткий случай датируется семидесятыми годами прошлого века.
Дело было так. Мой отец увлекся генеалогией. Специалист по сетевому планированию, он скрестил системное мышление с гуманитарными наклонностями и начал на досуге составлять таблицы родственных связей царствующих домов Европы — от Эшториала до Зимнего дворца и от царя Гороха до наших дней.
В просторечии таблица эта называлась «Кто кому Вася» (так или иначе, все царствующие особы оказались родственниками).
Компьютеров еще не было в помине — отец вручную исчерчивал ватманские листы и склеивал их в длиннющие простыни. Иногда внесение в таблицу очередного персонажа сопровождалось безответственной рифмовкой, вроде той, что вынесена в заголовок.
Рифма входит в голову гвоздем — и когда тридцать лет спустя, в Брюсселе, мне показали королевский дворец, имена его обитателей выскочили наружу в ту же секунду, и я страшно поразил окружающих своей эрудицией.
Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола!
Про их страдания в плену у советских футболистов я из скромности умолчал.
…мы с мамой встречали в Одессе.
Гуляли по Пушкинской улице — я, мама и мамина знакомая. Параллельным курсом двигалась первомайская демонстрация. Демонстрация притормозила на перекрестке; какой-то дядя, со словами «мальчик, подержи, я сейчас», всучил мне в руки огромный портрет — и ушел.
Ни «сейчас», ни потом дядя не появился. Когда мама, отвлекшаяся на разговор с подругой, спохватилась, я был уже не один. Чей был портрет, не помню — из глубин памяти лох-несским чудовищем выплывает словосочетание «товарищ Долгих», но я не поручусь.
Демонстрация тронулась с места, и мы пошли вместе с ней. Я — с товарищем Долгих на руках. Мама призывала трудящихся поиметь совесть, я что-то жалобно подвякивал снизу, но дурного изображения никто у меня не забирал, и все страшно веселились.
Наконец, решившись, мама вынула эту живопись из моих скрюченных ручек, аккуратно прислонила товарища Долгих к стеночке, и мы пошли от греха подальше…
Это называлось — обмен учащейся молодежью. Я был учащейся молодежью, и меня обменяли.
Я шел по Праге — с разинутым ртом и отцовским фотоаппаратом ФЭД [1] на шее. Я щелкал Карлов мост, Яна Гуса, часы на Староместской… — прекрасные дежурные достопримечательности.
Один кадр из той старой пленки спустя много лет поразил меня самим фактом своего существования: летом 1974 года я, советский старшеклассник, сфотографировал крупным планом — лоток у фруктовой лавки.