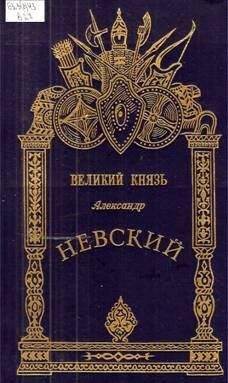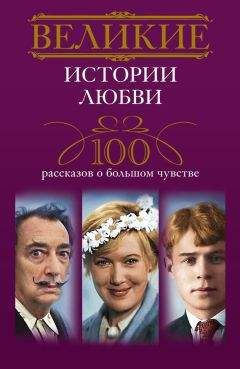Гореслава снова ощутила пристальный взгляд небесно-синих глаз.
Зажмурившись, княгиня сама коснулась губами чужих губ. Какими теплыми они были. Какими мягкими. Гореслава удивилась, как долго они могли с этим медлить.
— Ты расскажешь, что было дальше? — настороженно спросила Гореслава. Она снова лежала под боком Василисы, головой на ее плече, обнимая и льня, точно ребенок к матери. — Боюсь, что конец у этой сказки грустный…
— Грустный, — хмыкнула Василиса. — Пожар спалил не князя, но разлучницу. А ведьма, простив ему все, кинулась в объятия. Но я не люблю таких рассказов. Слишком они похожи на правду.
— Тогда я не хочу такой правды, — шепнула Гореслава. — Я хочу слушать твои сказки.
— И слушай. Если будет совсем стыдно, скажи.
Все тело у Лазорьки было белым и нежным, как пролитое молоко, только руки и ноги покраснели и огрубели от холода и работы. Тихо дышала девушка, молча смотрела на Гроздану, а та на нее. И не поднималась рука причинить боли. Как не поднялась той осенью вонзить костяной нож прямо в нежное горло. Гроздана села на край кровати и погладила чужую ладонь, поднимаясь выше и выше — до маленькой мягкой груди, умещающейся в ладошку и оставляющую под ней уйму места.
Лазорька подняла руки и обняла Гроздану за шею. Сама потянула грозную колдунью к себе. И ни разу не отвела от поцелуя губ, ни разу не сжалась, не попыталась отстраниться. Пьянела Гроздана от нежности, дурела от тихой ласки, и уже не хотелось ей обижать золотоволосую девушку. Только и отпускать не хотелось. Ведьма сама не помнила, когда ее платье упало на пол, не помнила даже, как гибкое белое тело оказалось над ней, а нежные юркие пальцы — внутри нее. Помнила только, как выгибалась гибким мосточком, от бури чувств точа слезы, а Лазорька сцеловывала соленую водицу и шептала что-то нежное, глубже вбивая щепоть меж распяленных ног.
После, когда они лежали рядом и Гроздана сжимала в своей руке мокрую ладонь Лазорьки, девушка прошептала на самое ведьмино ухо:
— Не вини меня в распутстве. Сама не знаю, какой дым вскружил голову, какой огонь разогрел кровь, а только… — закусила Лазорька нежную губу, прошептала, не поднимая взгляда. — Не гневись, если скажу обидное, а только похож он был на тебя, как родной брат. И волос темен, и взгляд; и улыбка — светлее некуда. Каждый жест у вас общий, вы одинаково сердитесь, одинаково радуетесь и… одинаково любуетесь на то, что приятно вашему глазу.
— На тебя, стало быть? — проводя ладонью по белому мягкому бедру, догадалась Гроздана. Она не была уже зла на Лазорьку. Теперь ей было грустно и стыдно: как могла она ненавидеть кроткую девушку?
— Может, и на меня, — белые щеки заалели, подогретые смущением. — Только он не был жесток, как ты. Но и ласков как ты — тоже не был… Зато у него в груди билось сердце. У тебя — тихо и пусто. Почему так?
— Потому что в нем билось мое сердце, — грустно усмехнулась Гроздана. — А теперь оно сгорело, и нет его вовсе.
Обнаженной встала она с кровати и прошла к скрине с одежкой. Не себе она выбрала платье: принесла полгода не видавшей пристойной одежды Лазорьке тунику да платьице. Гребешком расчесала светлые волосы, уложила в косицу — к прядке прядочка. Вплела в кончик косы бисерный косник и сама залюбовалось, какой ладной сделалась Лазорька, какой нежной и светлой. Сама бы за такой сорвалась да с любых цепей, от любых хозяев.
Отвернулась, собственное платье с пола поднять, а за спиной уже вскрикивает Лазорька. Обернулась — нож у той в руках, и режет себе грудь, распахнув платье.
— Неправильно ты сделала, колдунья, — прошептала, жмуря глаза от боли и вынимая собственное сердце, Лазорька. — Не целиком надо было сердце отдавать. Половину. Тогда — надежно. Тогда — никуда не денешься…
И протянула осколочек, половинку одну лишь, а ничуть не уступающую размером целому сердцу Грозданы. И такой огонь в нем горел — ярче любых костров, ярче любых закатов, ослепительно ясный и неугасимый. Богатым оказался Лазорькин дар, и с трепетом приняла его Гроздана. С тех пор стала она ласкова и заботлива, внимательна и добра. Горячее Лазорькино сердце за двоих расточало тепло, и не ведали девушки горя. А все же иногда тянуло у Грозданы в груди — болел уголек-сердце, заваленный сгоревшим теремом в той деревне. И, если задувал сильный ветер, он разжигал уснувшее пламя, и злость будоражила ведьму. Чувствуя такое, она бежала в лес — и там темной силой валила деревья, губила птиц. И все боялась, что однажды не сумеет убежать — и ярость ее падет на Лазорьку, и не сдержит то, что одно сердце бьется на двоих.
— Как страшно ты ее завершила, Васенька, — шепнула Гореслава.
— Извини… Самая не знаю, а все же иногда не ты, а те, о ком сказываешь, ведут рассказ. Вот и сейчас — будто за меня говорили, показывали, а я только рот разеваю. — Василиса погладила Гореславу по плечу. — Не боишься уснуть?
— Не боюсь.
Когда Василиса уснула, Гореслава еще долго смотрела в окно, на синее небо и яркие звезды. И до самого рассвета так и не смогла сомкнуть глаз. Но не из-за сказки бодрствовала княгиня. Ее томило желание бежать.
========== 5. Подземное царство ==========
— Гореслава! Доченька! Что ж с тобой эта ведьма треклятая сделала?.. — голосила Настасья, скорбно простирая руки в сторону княгини и Василисы. — Где это видано, чтоб замужняя девка — тьфу ты, господи! Замужняя женщина простоволосой ходила? Босы ноги казала? Помру со стыда, и некому за тебя, горемычную, заступиться будет…
— Настасьюшка, ну что ты, право? — ласково спросила Гореслава. Осень выдалась теплой, солнечной, ласково шелестящей золотыми листьями. Княгиня гуляла в одной рубахе, с бедным алым узором на плече да в шароварах, ярким малиновым цветом теплящимися под коротковатым подолом. — Кто меня, родная, увидит? Забор высокий, а кроны пышные…
— Ох, расскажут сенные девки хозяину, в каком виде гуляешь и с кем ночуешь в супружеской спальне… — горько, но негромко, чтобы не расслышала Гореслава, вздохнула старая нянька. — Осерчает барин, ох, осерчает…
Быстро наступали вечера, холодел по-летнему прогретый воздух. Запахнувшись в телогрейки, подбоченясь и подобрав плечи, возвращались девушки из сада в сени, в светлицу, в самую теплую