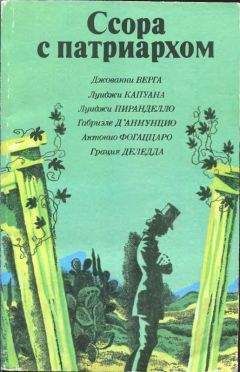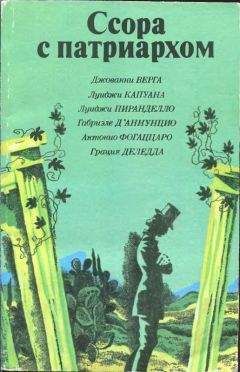— Это он сделал меня злой. Он испортил меня, превратил в человека без сердца! Тем хуже для него!
Синьора Муньос, крайне опечаленная еще и этим безумием — только так она расценивала упрямство дочери, — решила поговорить с дядей Тиндаро и кавалером Перголой.
Старик ответил резко:
— Это она так благодарит за добро, которое он ей сделал?
Кавалер Пергола пожал плечами, тихо выругался и спросил:
— А дом, на кого она оставляет дом?
— Она уходит отсюда, как и пришла! — с вызовом ответила синьора Муньос, которая почувствовала вдруг, как вскипела в ней вся гордость благородных семейств Муньос и Де Марко — в девичестве она была Де Марко, — чьи имена она носила.
Тем не менее она снова принялась уговаривать дочь:
— Подумай как следует. На тебе такая ответственность.
— Я хорошо подумала! — ответила Цозима.
— Посоветуйся со своим духовником.
— Сейчас я могу слушать только голос своего сердца. Я не хочу лицемерить. Это было бы недостойно… О мама!
И в темном платье, словно вдова, в черной шали, закрывавшей ей лоб, поздно вечером вместе с матерью, опираясь на руку сестры, она спустилась по старой лестнице вниз и вышла из особняка Роккавердина в темный переулок. Она не хотела идти по коридору мимо кабинета, где маркиз вопил день и ночь вот уже четверо суток, — Титта и мастро Вито дежурили возле него по очереди, — метался в кресле, и ни разу за все это время не слетело с его губ имя Цозимы.
Дядя дон Тиндаро и кавалер время от времени заходили к умалишенному, который не узнавал их, и в испуге уходили.
Теперь вместо доктора Меччо, который поспешил сюда в первый день скорее из злорадства, нежели из желания помочь, больного навещал доктор Ла Грека, семейный врач, получивший прозвище Доктор-малыш оттого, что был маленьким и тощеньким. Веревки он велел заменить широкими бинтами, пока не доставят смирительную рубашку и душ, за которыми послали в Катанию.
С этим доктором можно было по крайней мере поговорить. Зато этот жалкий клерикал Святой Спиридионе выводил кавалера Перголу из себя тем, что без конца повторял: «Дорогой кавалер, во всем этом видна рука господня!»
— А как же тетушка Марианджела, которая лишалась рассудка при каждой беременности! И тогда она ругала и проклинала всех, а в нормальном состоянии была добрейшей и порядочнейшей женщиной! А другие сумасшедшие? Рука господня! Просто нервное и умственное расстройство, вызванное навязчивой идеей.
Доктор Ла Грека соглашался с ним. И если этот фанатик, дон Аквиланте, действительно втянул маркиза в занятия спиритизмом, то одного этого уже предостаточно, чтобы объяснить все, что происходит у них на глазах. Больницы Парижа, Лондона, Нью-Йорка, утверждал он, переполнены сошедшими с ума спиритами, мужчинами и женщинами.
Поэтому кавалер дал понять адвокату, чтобы тот не появлялся больше в доме Роккавердина.
— Так что же, доктор, ничего нельзя сделать? И мы должны лишь смотреть на это?
Дяде дону Тиндаро хотелось получить указания, как лечить больного, хотя бы попытаться что-то сделать. Вопли маркиза терзали его. И он приходил в отчаяние, когда доктор отвечал:
— Хорошо еще будет, если удастся заставить его есть!
Им приходилось кормить его с ложечки, угрозами принуждать глотать пищу, иной раз и насильно вкладывать в рот, как животному. Он сопротивлялся, стискивал зубы, яростно крутил головой: «A-а! A-а! О-о! О-о!» — и монотонные вопли эти слышны были даже на площадке у замка, после того как доктор велел перенести маркиза в более светлую и просторную комнату, где удобнее было установить душ, прибывший накануне.
Лежа в постели, в смирительной рубашке, безумец, казалось, время от времени успокаивался, и тогда он устремлял широко раскрытые глаза на какое-то из своих непрерывных видений, издавая бессвязные звуки, которые должны были составлять слова. Но это было обманчивое затишье. Галлюцинации не оставляли его в покое, терзали его душу, и как бы ища выхода из этого состояния, он принимался кричать еще громче, еще мучительнее и страшнее: «Вот он! Вот он!.. Прогоните его! A-а! A-а! О-о! О-о! Распятие… Отнесите его на прежнее место, в мезонин! О-о! О-о! A-а! A-а!» Имена Рокко Кришоне, Нели Казаччо, кума Санти Димауро, которые он выкрикивал, говорили о том, какой клубок мрачных впечатлений потряс его мозг, где безумие переходило теперь в слабоумие, не оставляя надежды на излечение.
Дядя дон Тиндаро из-за своего возраста не мог без мучений смотреть на столь печальное зрелище. И кавалер Пергола, оставшийся в доме Роккавердина, две недели спустя тоже уже не выдерживал, еще и потому, что ему нужно было заниматься своими делами, а как быть с делами кузена, он просто не знал. Непростительное решение маркизы вызывало у него приступы гнева:
— А еще называют себя христианками! И исповедуются, и облатки жуют! И!.. И!.. И!..
Оскорблениям не было конца, если кто-нибудь, придя осведомиться о состоянии маркиза, пытался оправдать бедную синьору, которая слегла, едва вернулась домой, и жар все не спадал, вызывая опасения за ее жизнь.
— Тут, тут было ее место!.. И то, что я сказал вам, я выскажу ей в лицо!.. Я хочу, чтобы она знала это!
Как долго это могло продолжаться?
— Долго не продлится, — ответил однажды вечером доктор. — Слабоумие прогрессирует ужасно быстро.
И оба они — кавалер Пергола и доктор, собравшийся было уходить, — были изумлены, почти не поверили своим глазам, когда увидели в дверях гостиной Агриппину Сольмо, которую Мария не смогла остановить в прихожей.
— Где он?.. Пустите меня к нему!
Мария, ухватившись за край накидки, не отпускала незнакомку, которую приняла за сумасшедшую, когда открыла ей дверь.
— Где он?.. Пустите меня к нему… Ради бога, синьор кавалер!
И она бросилась перед ним на колени.
Доктор льстил себя надеждой, что появление этой женщины вызовет кризис в состоянии больного. Но его ожидало разочарование.
Маркиз, уставившись на нее своими невидящими глазами с затуманенными, словно покрытыми слоем пыли, зрачками, некоторое время сосредоточенно молчал, будто отыскивая в памяти какие-то далекие воспоминания. Потом снова безразлично и монотонно закричал: «A-а! A-а! О-о! О-о!» Он мотал головой, и с губ его стекала пена, которую Агриппина Сольмо, бледная как смерть, со спутанными черными волосами, сбросив шаль на пол, принялась вытирать, не говоря ни слова, не проронив ни единой слезы, лишь неотрывно глядя с жалостным изумлением на искаженное лицо своего благодетеля — иначе она не называла его.
И всю ночь простояла она у его постели, отирая ему губы, и не чувствовала усталости; слезы душили ее, застилали ей глаза, но не прорывались наружу. Скорбно скрестив на груди руки и горестно вздыхая, смотрела она, как маркиз мотает головой, и слушала его крики: «A-а! A-а! О-о! О-о!» — в те моменты, когда галлюцинации ненадолго оставляли его в покое.
— Пойдите отдохните. Мы выспались, — сказал ей Титта, входя на рассвете в спальню маркиза.
— Ах, кума Пина! Кто бы мог подумать! — воскликнул мастро Вито, еще не совсем проснувшийся.
— Нет, оставьте меня тут!.. — ответила она, даже не обернувшись.
— А вам-то кто привез это известие в Модику? — спросил Титта.
— Один человек из Спаккафорно… Ему написал отсюда его приятель. А он сказал моему мужу… И я с тяжелым сердцем поспешила сюда… Два дня ехала вместе с одним батраком. Мне казалось, никогда не доберусь сюда!
— Пойдите отдохните… В соседней комнате есть кровать…
— Оставьте меня тут, мастро Вито.
— Кума, — сказал он неуверенно, — теперь ни к чему притворяться… Вы ведь знали… про Рокко!..
— Клянусь вам, мастро Вито! Ничего не знала!.. Даже не подозревала!.. И из Раббато решила уехать, чтобы не мешать маркизу. Он не хотел больше видеть меня, плохо обходился со мной… Разве я была виновата? Он же сам… Я бы лучше умерла здесь, хоть служанкой, из благодарности… А его тетушка утверждала, что это я убила Рокко Кришоне… чтобы вернуться к маркизу и женить его на себе!.. Господь да не спросит с нее там, где она сейчас! Виноваты его родственники, баронесса прежде всего… Он не был бы сейчас в таком состоянии!.. Какое мучение, мастро Вито!
— Вы можете гордиться!.. Он так любил вас!
— Это правда! Это правда! — ответила она, грустно качая головой и вытирая пену со рта несчастного, совершившего убийство из ревности к ней, а теперь не узнававшего ее и кричавшего: «A-а! A-а! О-о! О-о!», лежавшего недвижно, стянутого смирительной рубашкой. Святая мадонна, какая жалость!
Кавалер дон Тиндаро, узнав утром от зятя, что приехала Сольмо, сказал ему:
— Напрасно ты пустил ее.
— Назло маркизе!.. А к тому же, где найти сейчас более преданного человека? Она провела возле него одна всю ночь.
— Маркиза может распорядиться прогнать ее. Она хозяйка.