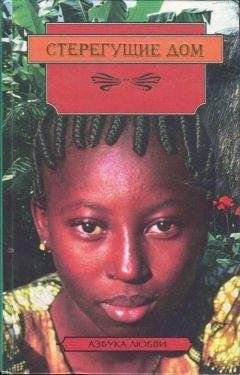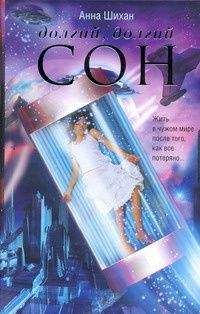— Пуп Таккер!
— Я!
Рыбий Пуп подошел к двери камеры.
— На прогулку, ниггер. Выходи, давай.
— Может, пропустим сегодня? — Неохота было уходить от этого Берта, такого заводного, с таким подходом к белым, какой ему по вкусу. Он слишком засиделся в одиночке, и присутствие Берта согревало его сладким теплом товарищества. — Завтра погуляю.
— Либо сейчас, либо сиди дожидайся до той недели, — объявил черный староста.
— Сходи проветрись, Пуп, — посоветовал Берт.
— Пошли, ладно, — со вздохом согласился Рыбий Пуп.
Он побрел следом за старостой по коридору, потом вниз по железной лестнице, потом опять по коридору к высокой двери, ведущей на тюремный двор. Заметно было, что сегодня старичок прямо-таки спит на ходу — он тащился с такой медлительностью, что Рыбий Пуп не двигался, а скорей топтался на месте, подлаживаясь к его черепашьему шагу, и все же наступал ему на пятки. Кончилось тем, что староста вдруг очутился с ним рядом, шамкая что-то неразборчивое себе под нос.
— Как сегодня на улице? — спросил его Рыбий Пуп.
— Погано, — отозвался старик, поджав губы.
— Дождик, что ли?
— Угу. Только его простым глазом не видать.
— Почему это?
— Ну и как тебе твой новый приятель? — ни с того ни с сего переменил разговор староста.
— А? Да ничего. Ха! Уж больно на белых нападает…
— Всерьез нападает или прикидывается?
— Похоже, всерьез, — сказал Рыбий Пуп.
— В одиночку-то оно гулять верней, парень, — с отсутствующим видом уронил староста.
— Чего-о? — Рыбий Пуп вытаращил глаза.
— У белых, сынок, много способов передавать новости, — тянул старик, словно обсасывая каждое слово, и, искоса глядя на Пупа, завозился с ключом у двери, ведущей на залитый солнцем двор. — Можно по телевизору, по телефону, по телеграфу, а можно по другу…
— Какую подругу, вы что? — Рыбий Пуп шагнул во двор. — А вы говорили, дождь идет…
— Он и идет, да его не видать простым глазом, — прошамкал староста.
— Что с вами, не пойму? — спросил Рыбий Пуп, стараясь сообразить, к чему эти витиеватые намеки.
— Идем-идем, гулять надо, — сказал старик.
Встревоженный, Рыбий Пуп вышагивал за ним по двору, не замечая уже ни солнца, ни ясного неба. Какая муха укусила старика? Дважды Рыбий Пуп пробовал вызвать его на разговор, но так и не смог ничего из него вытянуть.
— Пора, время кончилось, — недовольно отрезал он. — Минуты лишней нельзя задержаться, больно много доносчиков развелось.
— Пожалуйста, — все больше удивляясь, проворчал Рыбий Пуп.
Отперев дверь и впуская его обратно в здание тюрьмы, староста яростно зашептал:
— Наседкина забота — цыплят высиживать!
— Да о чем вы, в конце концов?
— Ни о чем, проехали.
Рассеянный, в глубокой задумчивости, Рыбий Пуп возвратился в камеру. Берт, сидя на краю своей койки, наблюдал за ним. До чего же чудно себя вел этот старый черт. Обиделся на него, может быть? Вроде бы Джим дает ему в лапу часто и не скупится.
— Ты, брат, что это пригорюнился? — спросил Берт.
— Так, ничего, — через силу улыбаясь, сказал Рыбий Пуп.
— И глаза какие-то чудные, — с расстановкой сказал Берт.
— Просто сколько же, думаю, еще мне сидеть здесь, в тюрьме?
— Понимаю. Глянешь на солнышко, так поневоле взгрустнется, точно?
— Вот именно.
— Слышь, Пуп, а если нам и правда что-нибудь учинить на пару, когда отсюда выйдем? Можно крупно разжиться.
— Это как же? — Рыбий Пуп поднял глаза, всматриваясь в напряженное черное лицо соседа.
— Эх, добыть бы мне что-нибудь на этого Кантли…
— Что, например? — спросил Рыбий Пуп, видя камин в своей комнате и кирпич, за которым замурованы погашенные чеки.
— Ты-то сам что про Кантли знаешь?
— Да не особо много, — неопределенно сказал Рыбий Пуп, занятый мыслью о том, нельзя ли с помощью чеков вытянуть из Кантли деньги. Мысль была свежая, заманчивая.
— На чем бы его утопить? У тебя нет ничего такого? — допытывался Берт.
Рыбий Пуп вдруг перестал дышать, чуя, как в нем шелохнулось что-то темное, скверное, как оно мощно нарастает из глубины, стремясь всплыть на поверхность. Перед ним все еще стоял камин, а до слуха явственно донеслось яростное и бессмысленное бормотание дряхлого старосты: «Наседкина забота — цыплят высиживать!» Круглыми, остановившимися глазами он смотрел на Берта, как будто только сейчас впервые его увидел. Кровь жарко прихлынула к его вискам и груди, мускулы сами собой напряглись. Он вскочил, протягивая скрюченные пальцы к горлу сидящего напротив мужчины. Он налетел на этого мужчину так стремительно, что тот, не успев встать с койки, опрокинулся под его тяжестью назад и со всего размаху с хрустом стукнулся головой о каменную стену.
— Ах ты, наседка поганая! — заорал Рыбий Пуп, осыпая голову Берта градом ударов. — УБЬЮ, СВОЛОЧЬ!
— Пусти! — крикнул Берт.
Не помня себя от ярости, Рыбий Пуп молотил кулаками по его лицу.
— Продать меня вздумал, легавая шкура? — шипел он.
Выставляя вперед то локоть, то колено, отбрыкиваясь ногами от беспощадных ударов, Берт вопил не умолкая. Тюрьма огласилась звонкими ударами гонга; Рыбий Пуп заметил краем глаза движение возле двери камеры.
— Прекратить, ниггеры! — раздался окрик часового.
Ухватив Берта за горло правой рукой, Рыбий Пуп чувствовал, как все глубже вонзается ногтями в податливую плоть — Берт тужился, пытаясь оторвать его от себя, царапался, размахивал кулаками, но Рыбий Пуп держал его мертвой хваткой. Для него сейчас все на свете сосредоточилось в его пальцах, вгрызающихся в чужую глотку, он не выпустил Берта, даже когда их принялись разнимать белые часовые.
— Отцепись от него!
Наконец его оттащили. Берт, хватая воздух открытым ртом, рухнул на пол. Рыбий Пуп с остервенением заехал ему под ребра носком башмака.
— УБИТЬ ТЕБЯ МАЛО, НАСЕДКА!
— Уймись, ниггер, а то ведь вмажу! — предупредил его часовой.
Рыбий Пуп отступил, исподлобья метнул взгляд на белого часового, который надвигался на него с дубинкой.
— Лучше уберите его отсюда, — прорычал он. — Все равно убью.
Из соседних камер доносились возбужденные голоса.
— На бунт подбиваешь заключенных, ниггер? — спросил часовой.
— Нет, сэр, — задыхающимся голосом ответил Рыбий Пуп. — Просто я ненавижу наседок! Не заберете его — убью!
— Эй ты, выкатывайся. — Часовой дал Берту пинка.
Берт поднялся на ноги, часовые схватили его и вытолкнули из камеры. Рыбий Пуп сел. Грудь у него ходила ходуном, слезы ярости слепили глаза. Он угрюмо огляделся, не веря, что Берта больше нет. Но тот уже брел под конвоем по коридору, спотыкаясь, и шум голосов в соседних камерах постепенно стихал. Дверь камеры заперли.