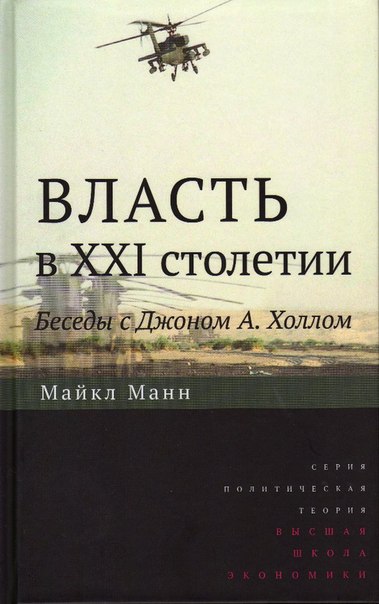не столько идеология, сколько прагматические соображения повседневной избирательной и парламентской политики. Схожим образом проходили через парламентский тигель в демократических государствах и другие проблемы и вызовы межвоенной эпохи — и в конечном счете государство от этого только укреплялось. Эти демократические политические традиции вошли слишком глубоко в плоть и кровь государства, чтобы фашизм, большевизм или какая-либо иная идеология смогла их опрокинуть. Применительно к этим странам, быть может, неверно даже говорить о либерализме как об идеологии — разве что об институционализированной идеологии, укорененной в повседневных ритуальных практиках. Ценности и нормы она рассматривала инструментально, стремясь с их помощью выиграть выборы или примирить враждующие партийные фракции.
Как отмечает Линц (Linz, 1976: 4–8), фашистские партии поздно познакомились с парламентскими институтами. При уже устоявшихся традициях партийной борьбы новичкам с трудом удавалось отвоевать себе место. Например, в Норвегии, Швеции и Дании демократические партии справлялись с любыми вызовами Первой мировой войны или капитализма (Hagtvet, 1980: 715, 735–738; Myklebust, Hagtvet, 1980: 639–644). Если их электоральные антенны улавливали рост национализма, значит, консервативные партии немного сдвигались в националистическую сторону. Если улавливали этатистские чувства — на эти порывы отвечали центристские и левые партии. Позже, когда некоторые из этих стран были оккупированы нацистами и партийная система в них рухнула, все в одночасье переменилось. Уничтожив парламенты и выборы, нацизм нашел себе множество идеологических союзников. В Норвегии, например, он завоевал поддержку 55 тысяч местных национал-социалистов.
В центре, на востоке и на юге Европы все было иначе. Парламенты до 1914 г. либо практически не существовали (как в Российской или Османской империях), либо делили политическую власть с неизбираемым монархом, военной верхушкой или премьер-министром и его кабинетом, обладавшими значительным административным ресурсом. Государство было дуалистическим — две ветви его власти (парламентская и исполнительная) пользовались относительной независимостью (Newman, 1970: 225–226). Именно таково значение термина «полуавторитарный». В наследие от прежнего абсолютистского периода остались вооруженные силы, подчиненные исполнительной власти намного плотнее и жестче, чем в другой половине Европы. В Германии и империи Габсбургов, в Сербии, Румынии, Греции и Болгарии монарх мог манипулировать выборами и парламентом с помощью административного ресурса и избирательных репрессий. В Испании периода Реставрации и (в меньшей степени) в «либеральной» Италии до 1919 г. министр внутренних дел или премьер-министр назначал выборы, чтобы создать покорное олигархическое правительство (el turno в Испании, trasformismo в Италии). В 1901 г. половина депутатов итальянского парламента были правительственными чиновниками — людьми едва ли независимыми. А в Великобритании «держатели мест» были упразднены еще в 1832 г.! Однако в этой половине Европы демократические установления работали лишь частично, в той мере, в какой им не мешала исполнительная власть. Шахтеры здесь не имели реальных рычагов политического влияния. Их интересы могла «представлять» местная аристократия непрямым путем, через политический клиентелизм. Но, если это не срабатывало, для власть имущих открывались куда более серьезные возможности репрессий, чем для их собратьев на северо-западе. У них имелись авторитарные, деспотические возможности.
В 1918 г. центр, юг и восток Европы столкнулись с тем, что можно назвать «политическим догоняющим развитием». Ларсен (Larsen, 1998; ср. Griffin, 2001: 49) пишет, что страны Оси были «поздними строителями нации, поздними либералами и ввели демократическое правление лишь незадолго до своего краха»; то же верно и для всей восточной половины континента. Германия и Австрия, как и Испания в 1931 г., сделали резкий рывок в сторону парламентской демократии и всеобщего избирательного права. Италия резко расширила избирательное право в первый раз еще перед войной, в 1912 г., и второй раз — в 1918 г. Эти резкие изменения парламентской системы не сопровождались параллельными реформами исполнительной власти, которая (как мы увидим далее, рассматривая конкретные случаи) по-прежнему оставалась в тисках «старого режима», сумевшего сохранить контроль над большей частью государственного репрессивного аппарата. Такие дуалистические государства, пытающиеся нащупать пути либерализации, мы видим повсюду. Однако многие центральные, южные и восточные государства столкнулись еще с одной проблемой переходного периода — они создавали национальное государство. Эта проблема была совершенно новой, неизвестной странам северо-запада. Северо-западная «этническая слепота» [22] была бесполезна для обитателей бывших территорий или окрестностей многонациональных Российской, Австро-Венгерской и Османской империй, где требовалось политическое представительство не только классов, но и народов. Наряду с движениями, мобилизующими классы, возникали движения, стремящиеся мобилизовать национальные чувства и интересы. На исторической сцене столкнулись старые имперские нации (русские, немцы и турки), более молодые империалисты (венгры), пролетарские нации (украинцы, румыны), новые субимперские нации (сербы, чехи), а также соответствующие этнические меньшинства в странах, где их окружало этнически чуждое большинство. Нередко нации различались и в религиозном отношении — и это усиливало их взаимную отчужденность.
Межнациональные конфликты были связаны с международными теснее, чем классовые. Версальский и Трианонский договоры начертили новые границы Европы, исходя из двух противоречащих друг другу принципов. Первый — вознаградить победителей и наказать проигравших. Второй — положить начало «национальному самоопределению», начертив границы согласно расселению народов, так, чтобы каждое новое государство стало преимущественно моноэтничным. В результате сложился целый список обиженных стран с ирредентистским настроем, мечтающих вернуть утраченные территории; особенно настойчиво добивались этого беженцы, вынужденные покинуть родину. Мы видим, насколько сложные и серьезные требования предъявлялись теперь к дуалистическим национальным государствам центра, юга и востока и насколько мало отвечали этим требованиям привычные для них политические практики. Все вовлеченные стороны столкнулись с неопределенностью и риском, на северо-западе практически неизвестными. В кризисные периоды исполнительная власть чувствовала, что безопаснее всего прибегать к репрессиям. Вспомним также, что именно по этому критерию бывшие абсолютистские государства — Германия и Австрия — оказались в том же положении, что и менее развитые страны востока и юга.
Теперь взглянем на политический кризис переходного периода глазами самого известного консервативного теоретика государства той эпохи [23]. Карл Шмитт — знаменитый немецкий юрист, после прихода Гитлера к власти ставший апологетом нацизма. Однако в 1920-х он был просто консерватором, без приверженности какому-то конкретному режиму: восхищался Муссолини, но не Гитлером, стремился создать теорию современного конституционного строя на твердом юридическом фундаменте абсолютного правового принципа. Он искал надежности и не хотел риска. По его мнению, незыблемые устои континентальной Европы пошатнулись из-за того, что крах традиционных полуавторитарных режимов свел на нет два неотъемлемых атрибута конституционного права. Во-первых, парламенты при старых режимах воплощали в себе просвещенческий принцип разума: в них шли дебаты между независимыми, образованными, рационально мыслящими людьми. Суть континентального либерализма XIX века в том, что лучшие законы вырабатываются в рациональных дискуссиях образованных людей. Теперь же, продолжает Шмитт, массовое избирательное право («участие», по терминологии Даля) породило массовые партии, угрожающие независимости этих людей. Депутаты превратились в представителей тех или иных общественных интересов: у них есть организации