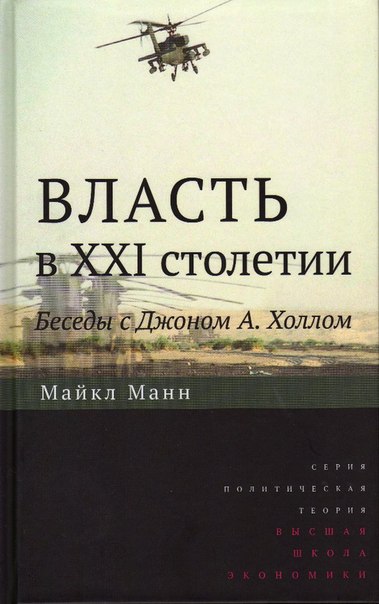причины. И политический кризис, в свою очередь, породил потребность в реальных идеологиях.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Идеологическая власть рождается из потребности человека понять значение происходящего, обрести общие нормы, ценности и ритуалы, придающие жизни осмысленность и укрепляющие социальное взаимодействие. Идеология, предлагающая привлекательные нормы, ценности и ритуалы, может также узаконивать власть создателей этой идеологии. Человеческое существование само в себе смысла не несет. Мы опираемся на более общие системы смыслов, как правило, не проверяемые напрямую ни наукой, ни нашим практическим опытом. Системы смыслов «превосходят» опыт и помогают определить наши интересы. Однако жизнь в обществе, как и укорененные в обществе системы образования, трудоустройства, политической деятельности и т. п., в норме избавляет нас от необходимости часто обращаться к господствующим идеологиям напрямую. В общественных институтах, в которых мы участвуем, создаются повседневные практики, которые работают и выглядят нормальными: они порождают минималистические институциональные идеологии, в которых ценности отступают на задний план перед прагматизмом. Однако в кризисные времена традиционные практики и прагматизм перестают работать — и мы обращаемся к идеям напрямую, желая найти или изобрести для себя новые работающие практики. Интеллектуалы предлагают новые системы ценностей и благодаря этому, возможно, обретают больше власти в обществе. Мы можем счесть одну из этих новых систем привлекательной и принять ее. Именно так я в первом томе «Источников социальной власти» (Mann, 1986: гл. 10) объяснял возникновение мировых религий спасения, а во втором томе (Mann, 1993: гл. 6–7) — влияние движения Просвещения на Французскую революцию. Можно ли так же объяснить фашизм? Я исследую сети коммуникаций фашистов. Географически можно выделить три основных типа: международные сети, макрорегиональные сети (они могут поддержать теорию «двух Европ») и сети в границах одного национального государства. Также я выделяю основные идеологические составляющие фашизма на социальном уровне.
Очевидно, что фашизм глубоко идеологизирован. Другие авторитарные правые были далеко не так привержены идеологии. Они могли прагматически заимствовать у фашистов те их идеи, что помогали оставаться у власти, но тот радикальный переворот, которого требовал фашизм, старались затушевать и обезвредить. Однако предвоенные прародители фашизма были интеллектуалами; и для самого фашизма интеллектуалы оставались важными фигурами. В предвоенный период Моррас, Баррес, Сорель, такие расовые теоретики, как Чемберлен и Гобино, а также толпа посредственных журналистов, популяризаторов и памфлетистов — вплоть до авторов печально известной антисемитской фальшивки, так называемых «Протоколов Сионских мудрецов» — имели куда больше читателей, чем состояло членов в довоенных фашистских или расистских политических организациях. И все фашистские движения продолжали обращаться прежде всего к высокообразованным людям — к университетским студентам, дипломированным специалистам, самым образованным представителям среднего класса. Сальваторелли (Salvatorelli, 1923) называл свою целевую аудиторию «гуманистической буржуазией». Большинство интеллектуалов фашизму удалось привлечь лишь в Италии и Румынии, однако повсюду он привлекал значительное меньшинство — в том числе журналистов, радиоведущих, кинорежиссеров, художников. Фашизм стал движением, так сказать, интеллигенции низшего порядка.
Таким образом, фашистские программы формировались в контексте более широкой идеологии. Я уже приводил презрительный отзыв Кодряну о типичном «пакете требований» обычной партийной программы. Фашисты помещали экономику или политику личных выгод и интересов в контекст Weltanschauung (миропонимания). Они провозглашали стремление к высшим моральным целям, выходящим за пределы классовой борьбы, готовность заново сакрализировать современное общество, все более материалистическое и загнивающее. Они говорили о кризисе цивилизации, охватившем правительство, нравственность, естественные и общественные науки, искусство и «стиль». Своих врагов они проклинали, используя моральную и очень эмоционально насыщенную риторику. Социалисты несли с собой «азиатское варварство», либералы были «испорченными» и «растленными». Наука «материалистична». Культура «одряхлела», «выродилась»: ее необходимо обновить и оживить. Фашисты пропагандировали собственное искусство, архитектуру, естественные и общественные науки, собственные молодежные движения и культ нового человека, с особым интересом к стилистике и ритуалам. Разумеется, Муссолини и Гитлер признавали эмоциональную силу искусства: музыки, маршей, риторики, картин, графики, скульптуры, архитектуры. Немало творцов с радостью поступали к ним на службу, чувствуя, что их художественное видение соответствует фашистской идеологии. В течение 1920-1930-х цепь кризисов, перечисленных нами выше, подорвала ощущение осмысленности жизни. Когда страна терпит страшные, разрушительные войны, теряет или присоединяет огромные территории, теряет (или принимает к себе) тысячи беженцев, сталкивается с тяжелым экономическим кризисом и классовыми конфликтами, переживает резкий и драматический политический переход — все это подрывает не только «старый порядок», но и множество старых верований, убеждений и способов жить. Общественные и политические идеологии не требуют научного подтверждения, да и получить его не могут. Так и новые идеологии не обязательно должны быть истинными — но от них требуется правдоподобие и привлекательность, хотя бы кажущаяся способность объяснить текущие события, перед которыми умолкают в растерянности идеологии прошлого. В межвоенный период традиционным идеологиям не так-то легко было объяснить современную реальность, по крайней мере в половине Европы. Консерватизм не доверял вышедшим на сцену массам; либерализм выглядел коррумпированным, недостаточно этатистским и националистичным. Социализм не доверял нации и, обостряя классовый конфликт, не предлагал для него никакого разрешения. Христианские церкви переживали кризис: они отдалились от мирской жизни, их сотрясали внутренние неурядицы. Открылось место для новых идеологий и идеологов, обладающих тем, что Люсьен Голдман назвал «максимально возможной сознательностью» — обостренным чутьем, позволяющим определить провалы привычных идеологий и заменить их новыми.
Такие авторы, как Хьюз (Hughes, 1967), Штернхелл (Sternhell, 1976: 320–325) и Мосс (Mosse, 1999), описывают общий международный идеологический кризис, поразивший Европу. Они видят противоречие между просвещенческим Разумом и постромантическим интересом к эмоциям, страстям, воле и подсознанию — тому, что порождает такие массовые феномены, как толпа, уличные столкновения, войны и национализм. Некоторые стремятся найти в «истории идей» связь между фашизмом и революциями высокого модернизма, в которых отразился и укрепился всеобщий кризис начала XX века: «тревожные перевороты» в психоанализе, абстрактной живописи, атональной музыке, закат «всеведущего автора» в реалистическом романе, тяготение к странному, фантастическому, декадентскому и иррациональному — все это отвергало характерный для Просвещения примат холодного и самоуверенного рассудка. Однако если бы международный культурный кризис помог укрепиться авторитаризму, это произошло бы повсюду. Возможно, это происходило лишь на макрорегиональном уровне? В таком случае культурный кризис на юге и востоке Европы должен был быть глубже. Пожалуй, в англосаксонских и скандинавских странах он действительно проявлялся меньше; однако столицей авангарда был демократический Париж, а новаторской музыки и психоанализа — социал-демократическая Вена. А до юга и юго-востока модернизм доходил с опозданием. В сущности, высокую культуру создавал тонкий слой космополитической элиты, не особенно привязанной к местности. Особенно верно это для музыки и художественного творчества, не стесненных лингвистическими барьерами. Однако трудно связать революции, совершенные Фрейдом, Шенбергом, Пикассо, Джойсом и так далее, с политическими революциями. Многие