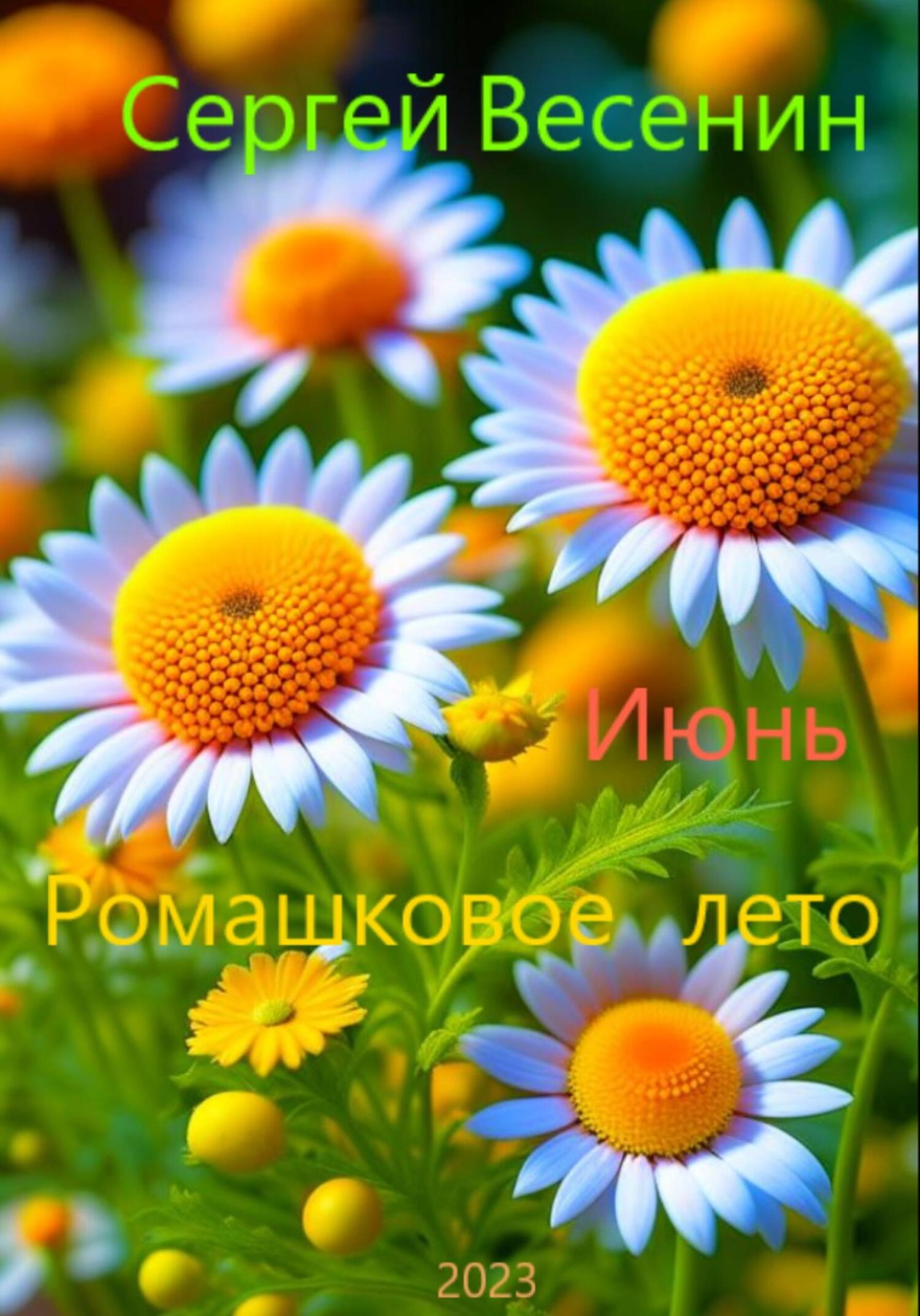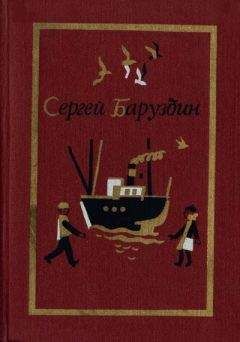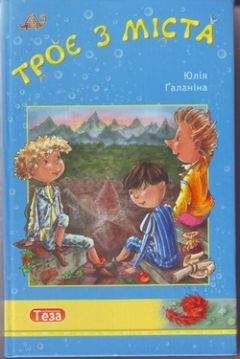богатым талантами» миром гениальных Шатобриана и Вагнера, над которыми насмехались современники, и оскудевшим, упадочным миром, с которым вынужден тягаться Мане. Эту фразу можно понять так: вы отнюдь не образец, а всего лишь первый среди одряхлевшего, упадочного искусства, в которое превратилась сегодняшняя живопись. Бодлер призывает Мане к смирению, и эта проповедь самоотречения могла быть обращена им и к себе самому. На языке поэта
упадок – синоним
прогресса, современности. Еще со времен Всемирной выставки 1855 года он обличал «дремоту одряхления» [84], в которую впадают подпевалы прогресса. В
Новых заметках об Эдгаре По он называет прогресс «великой ересью отжившей философии» [85]. Короче говоря, вы не первый художник, на которого обрушилась резкая критика; до вас были и другие, причем во времена великого искусства; вы – первый, но в эпоху, когда искусство характеризуется верой в прогресс, то есть в упадок.
Бодлер очень любит Мане, но, видя, как тот огорчен нападками критики, сомневается в силе его характера. Он пишет Жюлю Шанфлери: «У Мане большое дарование, и оно выстоит. Но у него слабый характер. Мне кажется, он огорчен и даже оглушен этим скандалом» [86]. Мане не обладает стойкостью Делакруа, и Бодлер хвалит его талант, но не гений, потому что его восхищают художники-бойцы, равнодушные к мнению других. Потому-то он ценит недалекого Шарля Мериона и считает Константена Гиса «солдатом-художником», вознося его на пьедестал «художника современной жизни» вместо Мане, которому потомство отдаст этот титул куда охотнее.
Бодлер (который, кстати, не видел Олимпию) обращался к Мане по-приятельски, с иронией, но его явная бесцеремонность в отношении к художнику, которого мы канонизировали, шокирует нас до сих пор. «Пускай Бодлер не сует нос в наши дела, говорит он хоть и звонко, но пустое, – писал Ван Гог своему другу, художнику Эмилю Бернару, в 1888 году, – пускай не вмешивается, когда мы говорим о живописи».
Неужели так смешон человек, который падает на льду или на мостовой, оступается на краю тротуара, что физиономия его брата во Христе непроизвольно перекосится, а мышцы лица вдруг заиграют, как башенные часы в полдень или заводная игрушка? Бедняга наверняка ушибся, а может, сломал ногу или руку. Однако смех прозвучал, неудержимый и внезапный. Если мы вдумаемся в эту ситуацию, то в глубине сознания весельчака непременно обнаружим неосознанную спесь. Вот она, отправная точка: Я-то не падаю; я-то иду твердо; мои-то ноги меня не подведут. Я-то не такой простак, чтоб не заметить край тротуара или вздыбленный дорожный камень.
В эссе О сущности смеха Бодлер, казалось бы, описывает свое наблюдение: человек шлепнулся на бульваре, примерно как это случилось с поэтом в Утрате ореола, когда тот оступился на мостовой и обронил поэтический венок. При виде растянувшегося на улице человека прохожие автоматически начинают смеяться. Отсюда Бодлер заключает, что смех злобен, природа его сатанинская и восходит он к первородному греху. «Мудрец смеется лишь трепеща», – напоминает он вслед за Боссюэ. «Иисус никогда не смеялся», – говорил товарищ Бодлера Гюстав де Вавассёр. Смеются лишь болваны, не сознающие своей слабости и мнящие себя великими. Бодлер разрабатывает теорию смеха, который «кровно связан с древним грехопадением, с физическим и моральным упадком». В раю не смеялись и не плакали. Смех выявляет убожество человека и его неведение собственного убожества, отсюда и гордыня: «Смех происходит от идеи своего превосходства. Идеи поистине сатанинской».
Бодлер представляет себе Виргинию, невинную девушку из повести Бернардена де Сен-Пьера Поль и Виргиния: она только что очутилась в Париже, приплыв с родного острова Маврикий, на котором Бодлер побывал в 1842 году. На витрине лавочки в Пале-Рояле она видит карикатуру. Чистая и невинная девушка не смеется, потому что ничего не понимает, ведь карикатура предполагает лукавство; но если она хоть ненадолго задержится в Париже, она утратит простодушие и научится смеяться. (Недавно в аэропорту Руасси я поскользнулся и растянулся во весь рост, и молодая девушка наклонилась ко мне со словами: «Вы не ушиблись?» Я подумал, что она уроженка какого-нибудь острова в Индийском океане, но несколько дней в Париже приобщат ее к нашим реалиям.)
Животные тоже не смеются. Бодлер – очень в духе Паскаля – усматривает в смехе сразу и знак ничтожества, и знак величия человека: ничтожество по отношению к Богу, величие по отношению к животным. Смех несет в себе и ангельское начало, и дьявольское. И не будь человека, не было бы в мире и комического. Смешное, как и красота по Канту, находится в глазах смотрящего, а не в объекте наблюдения.
Бодлер различает две разновидности комического и тем самым два вида смеха. Первый из них он называет значащим, это смех обыкновенный – так мы смеемся, глядя на карикатуру; Июльская монархия, на которую пришлась молодость Бодлера, была эпохой расцвета этого искусства: вспомним Гаварни и Домье. Карикатура всегда немножко угодничает, льстит зрителю, делая его соучастником; это смех сказок Вольтера, с типично французским остроумием, которое Бодлер не любит, это шуточки сатирической прессы в духе сегодняшней газеты Canard enchaîné, это смех Мольера, к которому Бодлер относится сдержанно, и даже полезный и поучительный смех Рабле, наделенный «внятностью притчи».
Другой смех именуется абсолютным, он безгрешен, потому что это смех и над собой тоже. Бодлер находит его не у французов, а у немцев, итальянцев и англичан: он присущ гротеску, пантомиме, комедии дель арте. Он недоступен слишком простодушному Домье, но Гойя достигает его в своих фантастических гравюрах. Это смех кинематографа, Бастера Китона и Чарли Чаплина, которых Бодлер предвосхитил.
В театре Фюнамбюль [87] актер, падая на сцену, первый же над собой и смеется – безобидным, истинным, возвышенным смехом. Абсолютный смех – это смех этих комедиантов или же редких карикатуристов, которые в силу своей мудрости способны раздвоиться: они наделены «силой быть одновременно собой и другим». Сознавая свою ничтожность, они не исключают себя из осмеянного. Человек падает на улице; он встает и разражается смехом: это мудрец, и он ироничен, как поэт из Утраты ореола.
Знакомая цитата: это определение «современности», которое поэт дал в эссе Поэт современной жизни, говоря о Константене Гисе:
Он ищет нечто, что мы позволим себе назвать духом современности, ибо нет слова, которое лучше выразило бы нашу мысль. Он стремится выделить в изменчивом лике повседневности скрытую в нем поэзию, старается извлечь из преходящего элементы вечного.<…> Новизна составляет переходную, текучую, случайную сторону искусства; вечное и неизменное определяет другую его сторону.<…> Словом, чтобы любое явление