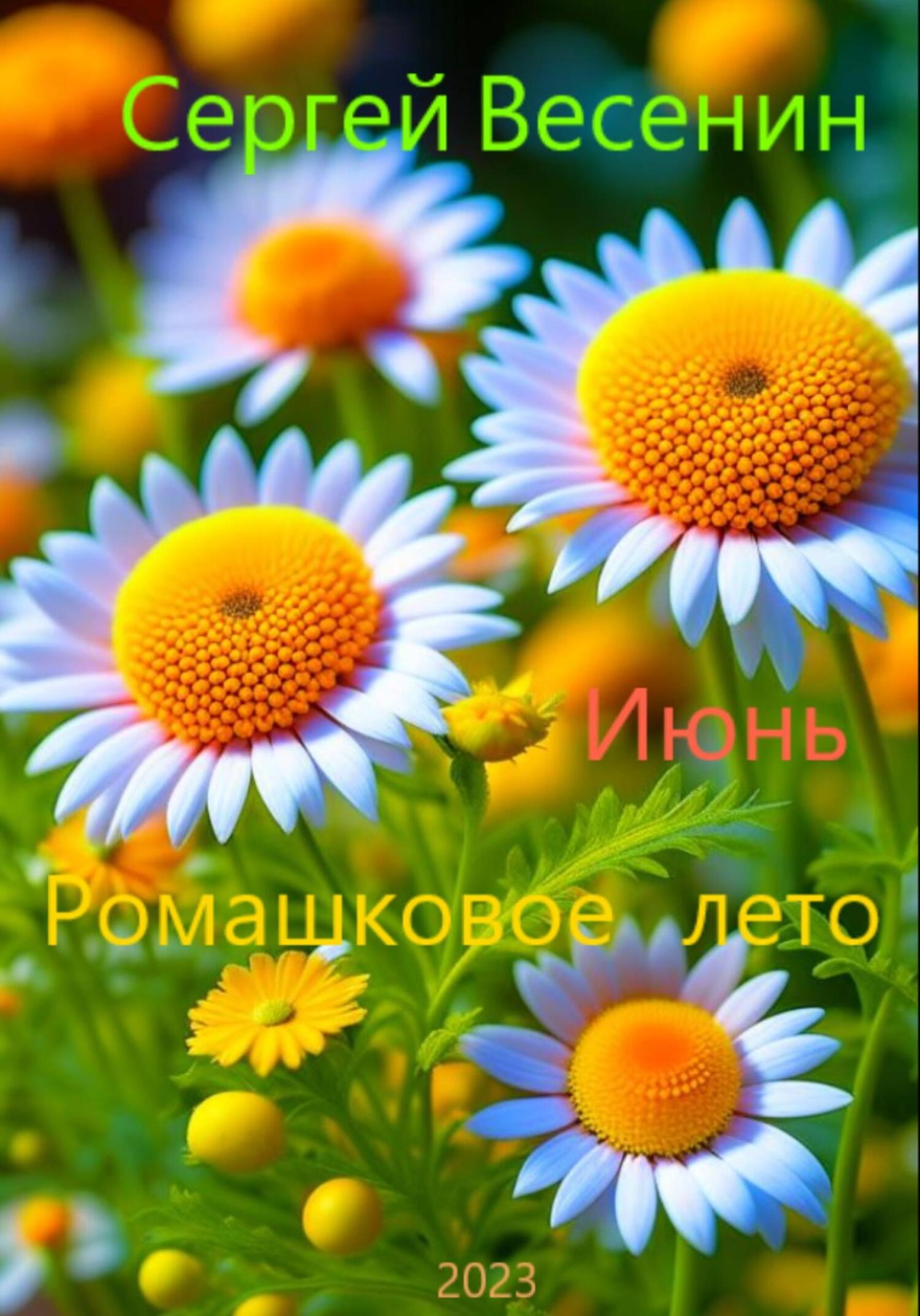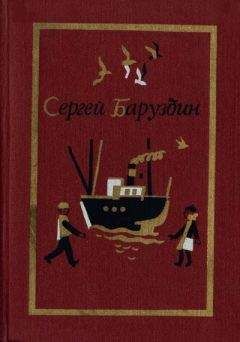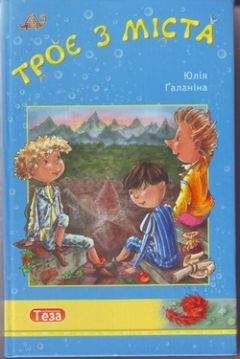выражению Жана Старобинского. В
Искусственном рае: «Он идет, покачивая головою, спотыкаясь о камни мостовой, совсем как юные поэты, слоняющиеся целые дни по улицам и подыскивающие рифмы». А в
Солнце, раннем стихотворении из
Цветов зла, сам поэт предается одиноким прогулкам «по грязным закоулкам»; он бредет по кочкам фраз: «блестки рифм ищу», «внезапно стих ловлю, бежавший сотни раз». Мы чувствуем и суровость жизни, и радость встречи, удачной находки.
Вот и в посвящении Парижского сплина Арсену Уссе, старинному товарищу богемной юности, позднее занявшему высокую административную должность, читаем: «Этот навязчивый идеал», маленькие стихи в прозе, «более всего есть детище огромных городов, переплетения бесчисленных связей, которые в них возникают», они «достаточно гибки и порывисты» [152], чтобы откликаться на городские события.
Но что означает «причудливое фехтование» [153]? Образ озадачивает. Он оставался для меня загадкой до тех пор, пока я не увидел в нем энергичные движения крюка, которым тряпичник тычет так и эдак по сторонам каменной тумбы. Когда префект полиции указом от 1828 года установил обязательную регистрацию тряпичников, он оправдал ее тем, что «злоумышленники обманывают бдительность полиции, обзаводясь, подобно тряпичникам, крюком, который в их руках может стать орудием грабежа или убийства». Семерка, иначе именуемая тростью с клювом или стрелой Амура (тогда рыцарь крюка звался Купидоном, а заплечная корзина превращалась в колчан), обретала черты опасного холодного оружия.
Первого апреля 1832 года тряпичники Парижа взбунтовались, когда власти отдали приказ немедленно убрать нечистоты, чтобы оздоровить город, разоренный эпидемией холеры. Бунт отличился редкой жестокостью, пресса сообщала о нем как о битве равно вооруженных соперников: «Крюк тряпичника скрещивался с саблей гвардейца или со шпагой городового». Крюк, сабля и шпага были синонимами, а это наводит на мысль, что призрак в Семи стариках, нежданно встреченный в предместье, тоже был тряпичником:
Вдруг я вздрогнул: навстречу, в лохмотьях, похожих
На дождливое небо, на желтую мглу,
Шел старик, привлекая вниманье прохожих, —
Стань такой подаянья просить на углу,
Вмиг ему медяков накидали бы груду,
Если б только не взгляд, вызывающий дрожь,
Если б так рисовать не привыкли Иуду:
Нос крючком и торчком борода, будто нож. [154]
Борода этого воплотившегося Агасфера похожа на нож (тряпичники и разносчики уподоблялись Агасферу под влиянием романа Эжена Сю: продолжение его романа Парижские тайны так и называлось, Вечный жид); как и его двойники, он вооружен тростью, а возможно, это трость с клювом. Кто он, «Иудей ли трехногий иль зверь без ноги»?
Итак, «причудливое фехтование» передавало манипуляции тряпичника крюком, и эта гипотеза находит подтверждение в последующем стихе: «нащупывая по углам…», где углы напоминают об углах каменных тумб. А еще это фехтование Константена Гиса, вернувшегося со своей вечерней охоты в Париже: «А теперь, в час, когда другие спят, наш художник склоняется над столом, устремив на лист бумаги те же пристальные глаза, какими он недавно вглядывался в бурлящую вокруг него жизнь; орудуя карандашом, пером, кистью…» [155]
Во времена бунта тряпичников 1832 года Бодлер был еще ребенком, но не мог не знать об этих событиях. Быть может, он вспоминал о них в стихотворении Пейзаж, в издании 1861 года помещенном в Парижских картинах перед Солнцем и описывающем другой момент поэтического творчества:
Мятеж, бушующий на площадях столицы,
Не оторвет меня от начатой страницы. [156]
В стихотворении Маленькие старушки поэт следует за этими «развалинами», «калеками жалкими с горбатою спиною», ковыляющими по «кривым извилинам» столицы:
Меж омнибусами, средь шума, темноты,
Ползете вы, к груди, как мощи, прижимая
Сумы, где ребусы нашиты и цветы;
И ветер вас знобит, лохмотья продувая. [157]
Меня давно занимали эти ребусы. Бодлер догадывался, что они удивят читателей; в 1859 году он послал Виктору Гюго рукопись Цветов зла и в примечании (не воспроизведенном в издании 1861 года) пояснял, что нечто подобное можно видеть на гравюрах, публиковавшихся во времена Директории в Дамском модном журнале Пьера де Ла Мезанжера. В феврале 1859 года друг Бодлера Пуле-Маласси прислал ему в Онфлёр номер этого журнала. В 1797 году в моде были сумочки для рукоделия и ретикюли (или ридикюли), разукрашенные девизами и ребусами. Таким образом, за вышитыми ребусами Маленьких старушек могли стоять реалии или, во всяком случае, картинки, выкопанные в старых журналах. Я знал об этом, но что-то меня настораживало. Если Бодлеру казалось, что он должен в примечании объясниться, значит, и его что-то смущало.
И вот в номере Figaro от 1837 года мне случайно попалась анонимная статья (на самом деле она принадлежала Теофилю Готье, «непогрешимому» адресату Цветов зла), озаглавленная Комнаты художника:
Комната художника должна быть завалена пакостью, наподобие старинной руины; она подбирает чужой хлам, подчас притягивает его издалека и делает из него милейшие украшения. Там и сям раскиданы черепки, диковинная домашняя утварь, рухлядь, ветошь, отбросы, сваленные у каменной тумбы, лоскут дамаста, корнет-а-пистон, ржавый тесак, да побольше всякой падали <…>, это произведет наилучшее впечатление.
Можно подумать, будто речь идет о комнате Бодлера в отеле Пимодан на острове Сен-Луи во времена его богемной юности. Готье писал «украшения» и «отбросы» еще в старой орфографии, без буквы «t» (ornemens, rebus), и говорил об «отбросах, сваленных у каменной тумбы», всё той же тумбы тряпичника. А может, и сумочки этих старушек были подобраны возле такой тумбы?
Готье тоже был неравнодушен к сопоставлению грязи и золота, короны и отбросов, что заметно, например, в описании барочной Суеты сует, одной из Двух картин Вальдес Леаля; это стихотворение в 1845 году было включено в сборник España, и Бодлер им восхищался:
Одна из этих чаш нагружена гербами,
Коронами царей, тиарами, венцами,
Другая же полна отбросов, черепков —
Уравновешены они спокон веков.
Rebut и rébus? В словаре эти два слова следуют друг за другом; они не давали мне покоя и тревожной омофонией, и возможной равнозначностью. Тем более что никогда не знаешь, надо ли произносить s в слове rébus или оставить его немым, как в слове ananas. Не лучше ли, не правильней ли говорить rébu, как zébu, во всяком случае, в единственном числе (un rébu, des rébus), как в некоторых регионах, даже если слово образовано от латинского аблатива [158]? Так или иначе,