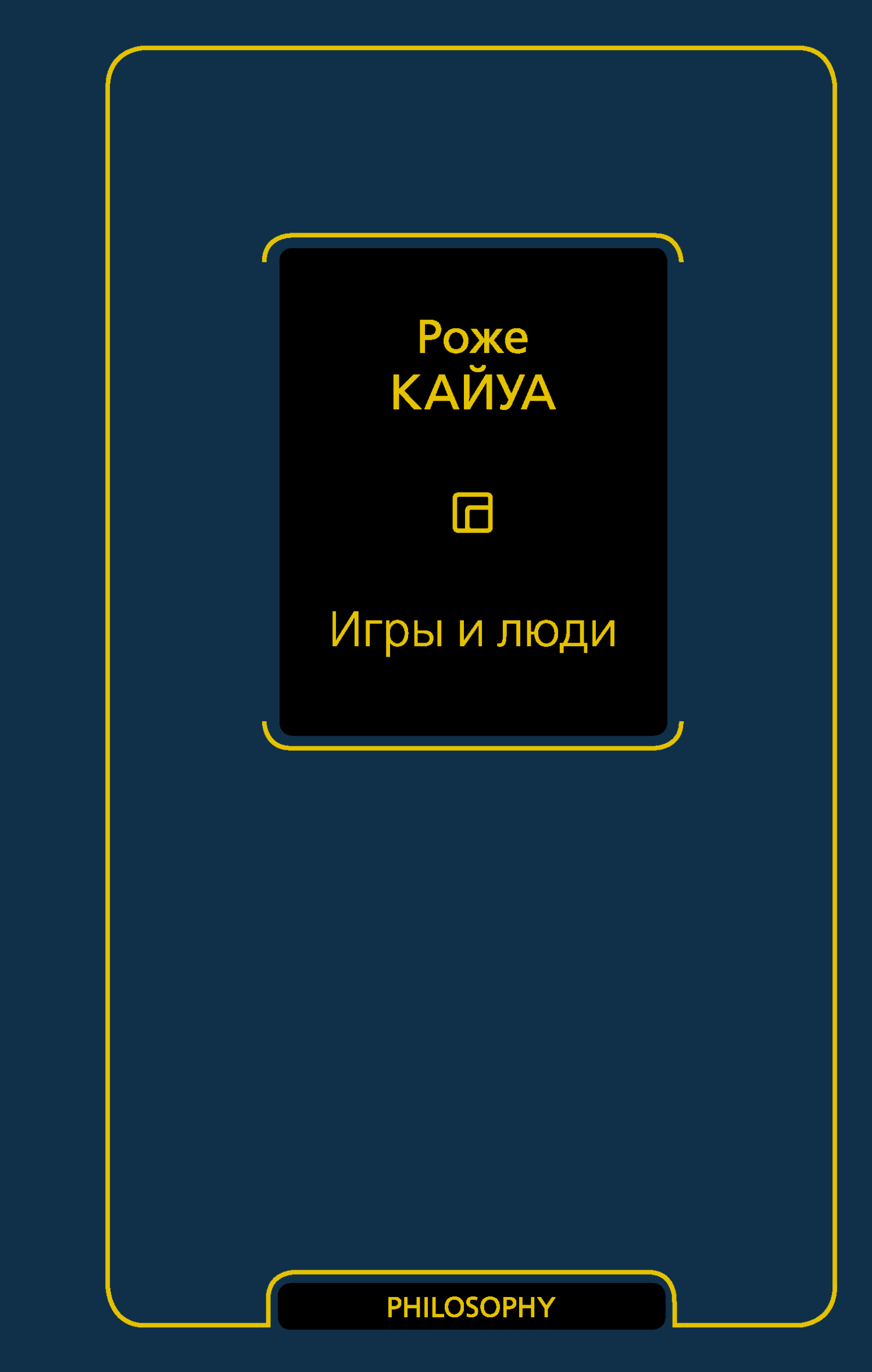mimicry это театральные искусства, от оперы до театра марионеток и гиньоля, а также – в более двусмысленной форме, уже сближающейся с головокружением, – карнавал и маскарад; наконец, для
іlіnх'а это ярмарочные гуляния и циклические ежегодные празднества, дни святых угодников и другие увеселения.
При исследовании игр отдельная глава должна быть посвящена всем этим явлениям, благодаря которым игры прямо включаются в повседневные нравы. Действительно, такие явления способствуют тому, что различные культуры приобретают некоторые из своих самых легко опознаваемых обычаев и институтов.
Когда мы перечисляли отличительные признаки, определяющие игру, то игра предстала нам как деятельность 1) свободная, 2) обособленная, 3) с неопределенным исходом, 4) непроизводительная, 5) регулярная, 6) фиктивная; при этом два последних признака в тенденции взаимно исключают друг друга.
Эти шесть чисто формальных качеств еще мало что говорят нам о различных психологических настроениях, от которых зависят игры. Резко противопоставляя мир игры и мир реальности, подчеркивая, что игра есть по сути своей отдельное занятие, они означают, что всякая контаминация с обычной жизнью грозит ее искажением и разрушением самой ее природы.
Оттого интересным может оказаться вопрос о том, что же происходит с играми, когда граница, резко отделяющая их идеальные правила от диффузных и неявных законов повседневной жизни, утрачивает необходимую четкость. Ясно, что они не могут неизменными распространиться за пределы отведенной им территории (шахматной или шашечной доски, турнирной площадки, гоночной дорожки, стадиона или сцены) или периода времени, чей конец непреложно означает закрытие игровой интермедии. При таком распространении они неизбежно получают весьма отличные, порой даже неожиданные формы.
Кроме того, в ходе игры участники повинуются одному лишь строгому и абсолютному кодексу правил; их предварительное согласие с ним составляет условие их участия в этой обособленной и сугубо конвенциональной деятельности. Ну а если вдруг конвенция перестает приниматься или переживаться как таковая? Если обособленность от внешнего мира больше не соблюдается? При этом, конечно, не могут сохраняться ни формы игры, ни ее свобода. Остается лишь одно тиранически властное психологическое настроение, заставлявшее принимать игру или же некоторый вид игры в противоположность другим видам. Вспомним, что этих различных настроений – всего четыре: стремление победить в регулярном состязании благодаря одной лишь личной заслуге (agôn), отречение от собственной воли и пассивно-тревожное ожидание приговора судьбы (alea), желание облечься в чужую личность (mimicry), наконец, тяга к головокружению (іlinх). При agôn'e игрок рассчитывает только на себя, на свое усилие и упорство; при alea он рассчитывает на все, кроме себя самого, и отдается на волю неподконтрольных ему сил; при mimicry он воображает себя кем-то иным и придумывает себе фиктивный мир; при іlinх'е он удовлетворяет желанию временно нарушить устойчивость и равновесие собственного тела, вырваться из-под власти своего восприятия, вызвать расстройство своего сознания.
Если игра заключается в том, чтобы давать этим мощным инстинктам формальное, идеальное, ограниченное удовлетворение в стороне от обычной жизни, то что же происходит, когда все конвенции отброшены? Когда мир игры перестает быть непроницаемым? Когда происходит его контаминация с миром реальным, где каждый жест влечет за собой необратимые последствия? Тогда каждой из наших фундаментальных рубрик соответствует некоторое специфическое извращение, вытекающее из отсутствия как сдерживающих, так и защитных факторов. Когда власть инстинкта вновь становится безраздельной, то склонность, которую удавалось обмануть обособленной, введенной в рамки и как бы нейтрализованной игровой деятельностью, выплескивается в обычную жизнь и пытается по мере сил подчинить ее своим собственным требованиям. Что было удовольствием, становится навязчивой идеей; что было уходом от действительности, становится обязанностью; что было развлечением, становится страстью, наваждением и источником тревоги.
Принцип игры оказывается искажен. Здесь важно подчеркнуть, что искажается он не из-за существования нечестных или же профессиональных игроков, а только из-за смешения с реальностью. По сути, происходит не извращение игры, а блуждание, отклонение одного из первичных побуждений, которыми управляется игра. Подобный случай – отнюдь не исключение. Он возникает всегда, когда данный инстинкт больше не фиксируется дисциплиной и рамками соответствующей категории игр или же когда он отказывается довольствоваться такой приманкой.
Что же касается нечестного игрока, то он остается в мире игры. Он обходит ее правила, но все-таки делает вид, что соблюдает их. Он пытается их чем-то подменить. Он нечестен, но лицемерен. Таким своим отношением он подтверждает и провозглашает действенность нарушаемых им же правил, поскольку ему нужно, чтобы им все-таки подчинялись остальные. Если его разоблачают, то изгоняют. Мир игры остается неприкосновенным. Точно так же человек, делающий игровую деятельность своим ремеслом, никак не изменяет ее природы. Конечно, сам он уже не играет – он занимается профессиональной деятельностью. Природа же состязания или зрелища не меняется от того, что атлеты или актеры – не любители, ожидающие от игры лишь удовольствия, а профессионалы, играющие за плату. Различие касается только самих этих людей.
Для профессиональных боксеров, велогонщиков или актеров agôn или mimicry – уже не развлечение, призванное дать отдых от усталости или перемену после монотонного, тяжко-изнурительного труда. Для них это и есть труд, необходимый для пропитания, постоянная и всецело поглощающая их деятельность, полная препятствий и сложных задач, и, чтобы отдохнуть от нее, они играют в такие игры, которые не являются для них обязанностью.
Для актера театральное представление тоже является актом симуляции. Он гримируется, надевает сценический костюм, изображает жесты и поступки, произносит речи своего персонажа. Но когда занавес падает, а свет гаснет, он возвращается к реальности. Разделенность двух миров остается непреложной. Также и для профессионального велогонщика, боксера, теннисиста или футболиста соревнования, матч, гонка остаются формально-регулярными состязаниями. Как только они заканчиваются, публика спешит к выходу, а сам чемпион возвращается к своим повседневным заботам, он должен защищать свои интересы, продумывать и осуществлять политику, которая наилучшим образом обеспечит его будущее. Как только он уходит со стадиона, велодрома или ринга, вместо идеально-точного соперничества, где он доказывал свою доблесть в совершенно искусственных условиях, начинаются совсем иные, гораздо более опасные соперничества. Они незаметны, непрерывны, неумолимы и пропитывают собой всю его жизнь. Подобно актеру вне сцены, он оказывается в положении обычного человека, как только выйдет из замкнутого пространства и особого времени, где царят строгие, произвольные и бесспорные законы игры.
* * *
Чаще всех игр искажается agôn, и настоящее его извращение начинается вне арены, после финального гонга. Оно проявляется во всех конфликтах, которые не смягчаются строгостью игрового духа. Ведь безраздельная конкуренция – это просто закон природы. В обществе она обретает свою изначальную жестокость, как только находит себе лазейку сквозь сеть моральных, общественных