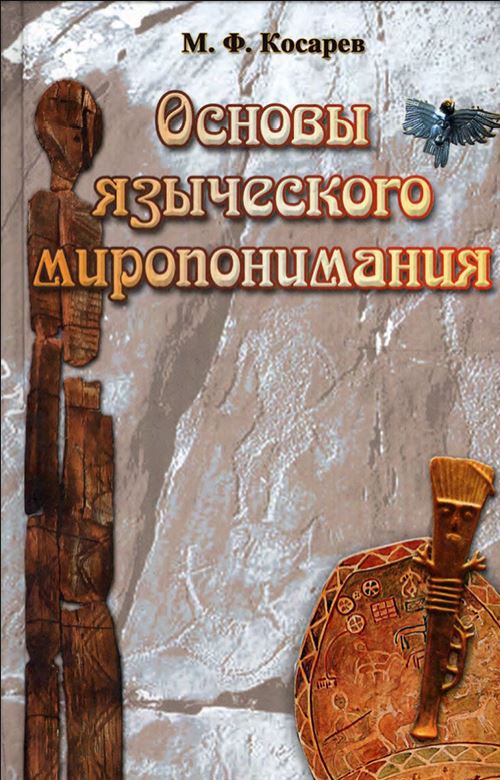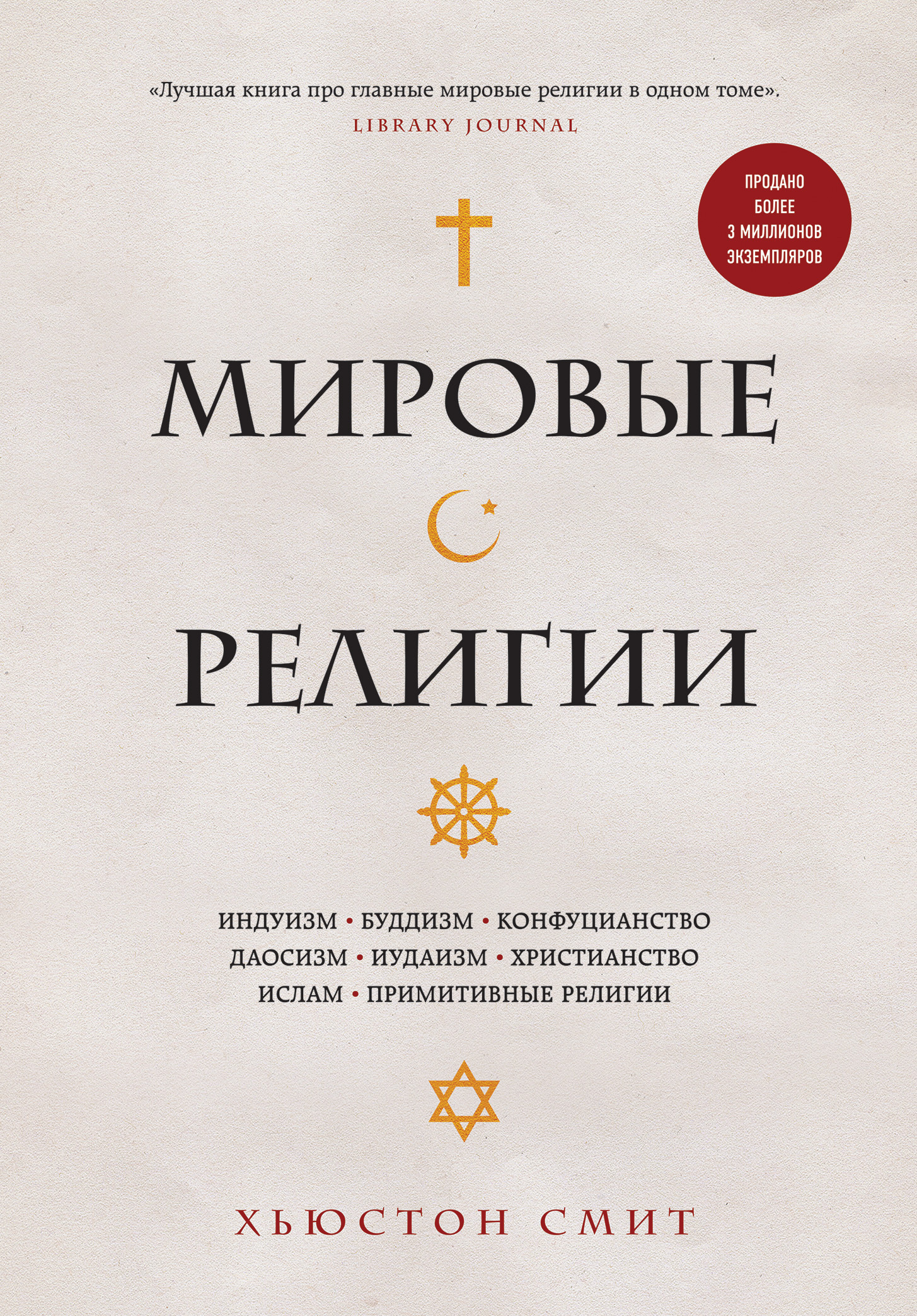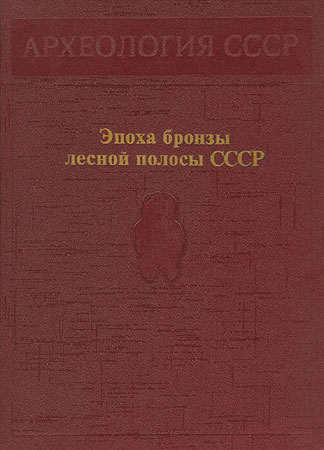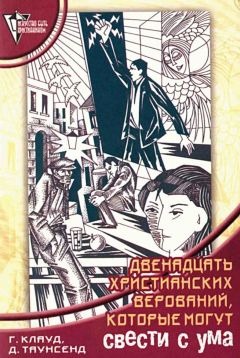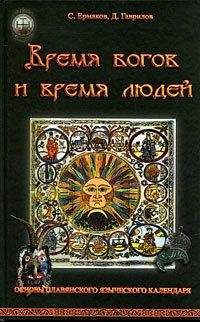class="p1">Если в основе нравственной концепции христианства лежит идея по существу безоговорочной «любви к ближнему», то у язычников тайги и тундры нравственным считалось прежде всего то, что способствует выживанию рода, в том числе отречение от «невыгодных» духов, оставление на произвол судьбы недееспособных калек, безнадежных больных, ритуальное убийство стариков и др. Иными словами, в основе различения добра и зла в сибирской языческой первобытности зачастую лежал, если можно так выразиться, «родовой эгоизм».
Описывая быт и обычаи камчадалов, С. П. Крашенинников сообщает: «Когда они рожали двойню, то по крайней мере одному умереть надлежало». То же самое и гиляки: «одного из двойнишных всегда убивают» (Крашенинников С. П., 1949. С. 437, 470). У северных якутов, отмечал Н. Припузов, «бедные семейства, обремененные многочисленной семьей, новорожденных детей вешали на деревьях в турсу-ках» (кожаных сумках. — М. К.) (Припузов Н., 1890).
В. Иохельсон (1898. С. 226) поведал историю о голоде у юкагиров.
Кормилец семьи, обессилев от недоедания, был накануне смерти. Когда он стал совсем плох и впал в беспамятство, его жена убила своего ребенка и стала кормить мужа грудным молоком. Начав выздоравливать, супруг спросил:
— Ты зачем убила нашего ребенка?
— Если ты помрешь, — ответила жена, — мы все помрем, никого у нас не будет; если ты будешь жив…, у нас другие дети будут.
Примечательно, что убийство матерью ребенка во имя спасения мужа и семьи преподносится рассказчиком как разумный и нравственный акт.
Наиболее явно и жестоко этот «бесчеловечный» с точки зрения христианской морали закон проявлялся во время эпидемий. Тунгусы, по наблюдениям князя Кострова, «как скоро кто у них заболеет этой болезнью (в данном случае речь идет об оспе. — М. К.)… кладут ему несколько пищи и оставляют на произвол судьбы, уходя сами как можно дальше на возвышенные места, где воздух чище» (Костров Н. А., 1857. С. 96).
Вот как врач К. А. Рычков описывает эпидемию оспы у самоедов Туруханского края в 1908 г.:
«Туземцы вымирали здесь целыми семьями. Объятые ужасом смерти, устрашенные последствиями эпидемии, ощущая на себе ее действие, они в паническом страхе бросали свои чумы, заболевших членов семьи и бежали в отдаленные места, с надеждой убежать от неминучей гибели. Но смерть преследовала беглецов по пятам, и они умирали в пути, сидя на своих санках. Достаточно было заболеть одному человеку, как наступала семейная паника: кто срывал с чума нюк, кто собирал оленей, и все обращались в бегство, оставляя заболевших на произвол судьбы.
Ужасны по силе трагизма картины заболеваний туземцев, от которых холодит мозг и душу очевидца. Представьте себе среди мрачной тундры одиноко стоящие брошенные жилища. К ним никто уже никогда не подойдет. Они заживо погребены. Они беспомощны и обречены на смерть, если не от эпидемии, то от голода и стужи. Трудно себе представить весь ужас положения этих несчастных, которых люди как бы вычеркнули из числа живых и убежали от них, как от чего-то отвратительного, ужасного. Оставленные на произвол судьбы, они поднимают вопль, целуют и умоляют своих шайтанов, наконец дичают, сходят с ума. Иногда далеко был слышан их протяжный жалобный вой» (Рычков К. М., 1917. С. 122–123).
По сибирским этнографическим данным, избавление от «лишних» сородичей было особенно распространено у подвижных охотников, оленеводов и северных скотоводов, т. е. в основном у номадов, ведущих одностороннее хозяйство, не подстрахованное в должной мере другими видами хозяйственной деятельности. В таких обществах лишние «иждивенцы» были особенно обременительны, а потому нежелательны.
С наибольшей наглядностью это проявилось в обычае убийства стариков. В юкагирском сказании «Сын Учэгэна» молодой охотник убивает своих дедушку и бабушку, затем мать, и, тем не менее, доволен собой и жизнью, женится на красивой девушке и счастлив во всем. Рассказчик не осуждает его — напротив, наделяет всевозможными достоинствами: он — богатырь, смелый воин, хороший охотник (Гоголев З. В. и др., 1975. С. 229).
А. А. Ресин, посетивший в 1880-е гг. Чукотку, отметил, что у олен-ных чукчей очень мало стариков. Почувствовав наступление старости, глава семьи, по словам Ресина, «призывает своего старшего сына, долг которого отправить его на тот свет. К больному, лежащему за пологом, просовывается копье, и сам старик со стойкостью направляет острие его в свое сердце» (Ресин А. А., 1888. С. 174).
У северных бурят, скотоводов-охотников, прежде существовал обычай убивать стариков, достигших возраста около 70 лет. Накануне убийства старик этот устраивал у себя дома большое пиршественное застолье, собирал родных и знакомых, которые чествовали его, оказывая почет и уважение. «Можно думать, — замечает Хангалов, — что старики и старухи мешали передвижениям бурят, составляли только лишнюю тяжесть» (Хангалов М. Н., 1888. С. 1).
Похожие способы добровольной или насильственной «почетной» смерти известны в прошлом и у якутов (Серошевский В. Л., 1896. С. 513–514). Социально-психологическая подоплека вышеописанного обычая ярко рисуется в якутском предании, опубликованном Г. В. Ксенофонтовым. Богатырь Идэльги-Боотур, постарев и потеряв свежесть сил, созывает своих младших родственников и держит перед ними такую речь:
«Детушки мои! Оказывается, я уже постарел и потерял свою резвость. Отныне, по-видимому, предстоит мне жалкая участь — не справляться даже с делом естественной надобности. Бывало, в старину, в пору моей зрелости и полноты сил, южную половину нашей елани покрывал я поперек девятью прыжками. А вот сегодня едва прошел девятнадцатью. Подобно дрянным и жалким людям не желаю я умирать, дойдя до полного изнеможения… Мое заветное желание, чтобы вы теперь же покончили мои счеты с жизнью».
Далее произошло следующее: «…Он созвал свою родню и устроил богатое угощение. Ели и пили вдоволь. Вели самые заветные и задушевные беседы. В заключение, высказав свои предсмертные слова и желания, он простился со всей родней, людьми и родной страною. А могильная яма уже была готова. Говорят, что Идэльги приказал оседлать своего любимого коня и от дома до могилы проехал верхом с видом человека, отправляющегося в дальний путь. У самого края могилы он стал на колени. Внук и брат развязали тетиву его лука и, обернув ее вокруг шеи, начали тянуть в обе стороны изо всех сил» (Ксенофонтов Г. В., 1977. С. 14).
В основе вышеописанного обычая лежал жестокий первобытный рационализм, освященный высоким жертвенным началом, в результате чего убийство превращалось в священный акт. Считалось, что насильственная смерть, обставленная определенными ритуалами, уже не убийство, а способ отправления в лучший мир, обеспечивающий высокую посмертную будущность. Собственно, это тоже проявление любви к ближнему, но не на христианский, а на языческий манер.
По сибирским языческим представлениям, люди, погибшие от какого-либо оружия (не обязательно в бою),