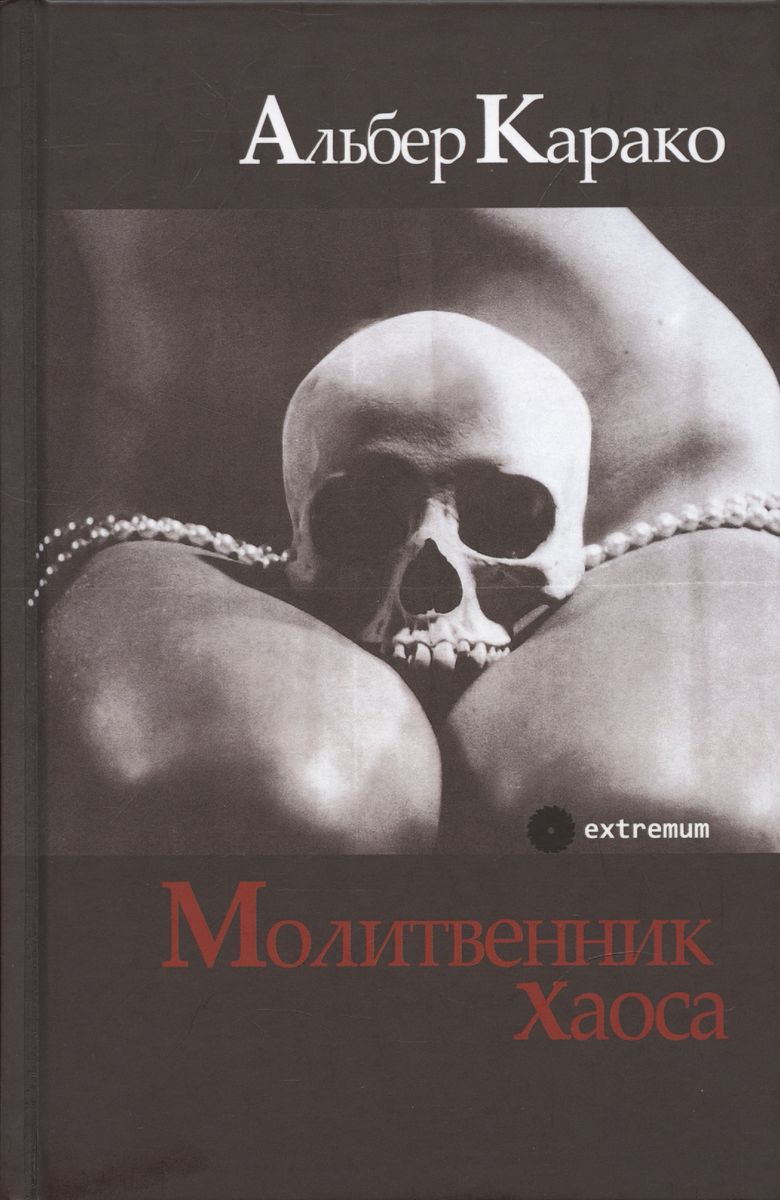гробнице массы может открыться царство духа. Это горькое лекарство, но болезнь горше, и нам не уклониться от выбора между выздоровлением и исчезновением, мы излечимся ценою величайшей из всех катастроф, что видывала История, тень будущего уже легла на нас. Ибо мы ступаем в тени грядущей смерти, и смерть есть неисчислимое измерение нашего существования, бездна нависла над нами, и стройными рядами мы отдаемся бездне.
Нам не пережить мир в его текущем состоянии, ибо это состоянее не знает будущего. Настоящее нас погубит, а те, кто выживут, — эх, как же мало их будет! — обнаружат мир совершенно новым — не имеющим и отдаленного сходства с тем, который мы населяем.
Будущее порвет с реальностью, которую приходится терпеть, и если бы это продолжалось, никакого будущего не было бы, между нами и теми, что идут нам на смену, разверзлась пропасть, в которой нам суждено сгинуть. Так мы ступаем на путь хаоса и второй смерти под тяжестью наших творений, соприродных ночи, чтобы вернее похоронить себя под ними, и прошлое последует за нами во мрак, который мы еще углубим, дабы прошлое из него не восстало.
Нам предначертано замкнуть кольцо Истории, она должна умереть с нами, скоро закроются эти скобки; мы согласны, полностью согласны на то, чего нам не избежать, и мы ничего не боимся больше, мы ждем худшего; мы ждем только худшего, мы пожертвовали надеждой, мы отреклись от веры, мы свободны как никогда, мы пожаловали к себе на похороны и пережили всякие причины жить, которые отныне заменила для нас сама смерть.
Мы больше не прервем свой путь в бездну, вес перенаселенного человечества нас не пощадит, века, повисшие у нас на плечах, прикуют нас к земле, а хаос ложных представлений, которые мы лелеем себе на погибель, одурманит наш ум.
Мы можем всё, только не сдать назад, даже медлить нет времени, и мы знаем, что готовит нам путь. Решения постепенно отступают, одно за другим, отрезая нам тыл, и парадоксы становятся всё разнообразней, а проблемы — всё сложней, большинство отказывается их признавать, большинство отказывается мыслить себя, а наши лучшие умы проповедуют законность нашей непоследовательности, наши почтеннейшие мудрецы отвергают всякие претензии на синтез, образ этого мира наконец распадается на куски, и наши интеллектуалы утверждают, что таким образ этого мира и останется.
Надолго ли? Ибо никакой беспорядок не может пребывать в беспорядке, не разваливаясь всё больше, таков видовой закон, который наши авгуры решили забыть, смысл и справедливость которого мы ясно ощущаем.
На одну страну, которая творит Историю, приходится двадцать, которые ее претерпевают, и в этих двадцати странах любая партия — это партия Чужака, пусть даже она называет себя националистической.
Нации, которые не творят Историю, не предвидят того, что на них надвигается, их судьба — хаос, их слава не оградит их, и их доблесть не обезопасит их от падения в оцепенение, которое есть их удел. Только редкие нации, оставшиеся независимыми, взваливают будущее мира на свои плечи, в былые времена они были способны на многое, теперь у них будет всё меньше и меньше возможностей. Доля фатальности увеличивается, а оцепенение — это тень, отбрасываемая фатумом: однажды их удел станет тем же, что и у большинства народов, их сила окажется бесполезной, от их привилегий останется только имя, и История станет всеобщей страстью.
Сколько лет разделяют нас и через сколько лет мы станем бессильны, причем скорее остальных? Тогда худшее станет данностью, и напрасно мы станем охранять фасад порядка, мы двинемся к хаосу, ослепленные всё более деспотичным благодушием и убежденные всё более абсурдной традицией.
Национализм — мировая болезнь, и излечением от нее станет смерть помешанных. Мы не можем продолжать существование с такими пагубными идеями в мире, который становится всё более тесен, они нас погубят.
Историки будущего скажут, что природа отыгралась на народах, наделив их духом головокружения, и что Национализм — это вид помешательства, подобный тем, которые охватывают чересчур крупные животные сообщества.
Нас слишком много, мы хотим умереть, и нам нужен благородный предлог — и мы его нашли: самая идеальная из страстей — страсть владения и отчуждения — позволяет нам возвышать себя, множа по надобности самые постыдные из деяний, с ее помощью мы опьяняемся самими собой, принося себя в жертву, она широким жестом превращает нас в монстров, позволяет нашим добродетелям рядиться в атрибуты греха и — более того — выбирает за нас то, чего мы хотим и не решаемся выбрать. Мы решительно пропали, болезнь не пощадит ни одну из наций, и все страны как одну объединяет ярость, которая восстанавливает их друг против друга и движет к взаимному уничтожению.
Ни одна нация не хочет забывать то, что она зовет своей историей и что как правило не имеет ничего общего с Историей, и однажды всем нациям придется отказаться от своих историй.
Последний завоеватель обезоружит пространство и время, конфискует орудия и идеи, претензии и воспоминания, формы и содержания, он провозгласит себя единственным наследником пятидесяти веков и докажет, что в нём одном заключен смысл существования человеческого рода и что долг сотен народов состоит в самоотречении. Он уничтожит одни народы, депортирует большую часть оставшихся, и повсюду мы увидим людскую пыль, над которой он будет единолично властвовать. Ибо иначе простота непостижима, несмотря на изобилие различий, появляющихся перед нашими глазами.
А будущее — за простотой. Мы движемся по степеням беспорядка к конечному порядку и по телам погибших к моральному разоружению. Мало кто будет спасать, и мало кто спасется, ибо погибельные массы исчезнут в этом интервале и унесут неразрешимые проблемы за собой в бездну.
Национализм — это искусство успокоить массы, уверить их в том, что они не просто массы, выставить перед ними зеркало Нарцисса: и наше будущее разобьет это зеркало.
Снисхождению нужен простор, а простора этому миру не хватает больше всего. Мир становится тесным, мы всё никак не хотим этого понять, нам приходится отказываться от воспоминаний, ибо они нас ширят, и от иллюзий — ибо они занимают слишком много места.
Считается, что нации на это не согласятся по своей воле, и этот отказ уже намекает на грядущие бесчисленные ужасы. У последнего завоевателя не будет на шее судей, и если он в один день уничтожит миллиард человек, некому будет его осудить. В будущем не будет никакого согласования решений, будущее будет рубить с плеча, его атрибутами будут насилие и простота, и мы делаем вид, что питаем на