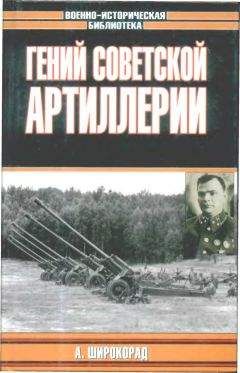наизусть по-французски стихи Верлена и Бодлера и свои
собственные, из которых мне врезались в память на всю жизнь
некоторые строчки.
Открыв для себя такого небанального человека, я перезнакомила
его со своими друзьями, в том числе и с двумя композиторами –
Шурой Локшиным (который, как и Алик, восхищался Эдгаром
По и Бодлером) и его приятелем Мишей Мееровичем. Они тоже
водили его за собой по знакомым и по ресторанам и, бывая в
подпитии, перелезали через заборы, ходили по крышам каких-то
сараев и что-то декламировали, весьма для того времени
рискованное.
Это был 1949-й год – год борьбы с космополитизмом и
формализмом. Оба композитора по этой причине были изгнаны
из Консерватории и зарабатывали на жизнь (надо сказать, по тем
временам совсем неплохо) игрой в четыре руки на самых
разнообразных площадках и сочинением музыки для
кинохроники. Новые друзья, по-видимому, Алику нравились. А
летом 1949-го года его арестовали.
О том, что Алик Вольпин сильно изменил свое отношение к
кругу наших общих музыкальных знакомств, я узнала из его
письма, присланного уже из ссылки, в котором он мне советовал
не водиться больше с «этой музыкантской шантрапой». К тому
времени я была уже женой Шуры Локшина; я показала ему это
письмо.
Чего-то подобного мы уже ждали. Дело в том, что после ареста
Алика и Прохоровой в НКВД в качестве свидетелей были
вызваны два композитора (бывшие постоянными посетителями
дома Локшиных), а также мать Шуры – Мария Борисовна и его
сестра Муся. Мусю дважды привозили в НКВД из санатория, где
она приходила в себя после тяжелейшей операции – ей удалили
несколько ребер и одно легкое, пораженное туберкулезом.
Только со второго раза, после угрозы, что арестуют ее брата, если
она не подтвердит «антисоветские высказывания Прохоровой»,
она сдалась. Той же угрозой заставили подписаться под
протоколами мою свекровь.
Но ни Шуру, ни меня в НКВД не вызывали. В сценарии,
сочиненном на Лубянке, Шуре готовилась совсем иная роль –
роль прикрытия для стукача.
Наверняка после моего рассказа многие осудят Шурину мать и
его сестру. Поэтому я должна добавить следующее. В 1948-ом
году (как раз в то время, когда его отчислили из Консерватории)
Шуре вырезали, в связи с сильно обострившейся язвой, две трети
желудка. Об этом у нас сохранилась справка. Между прочим,
М. В. Юдина тоже упоминает об этом факте в одном из своих
писем (см. Приложение 2). Мать и сестра Шуры понимали, что
если бы Шуру арестовали, он умер бы в тюрьме очень скоро.
Но вернусь к своему рассказу об Алике. Когда Алик освободился
в 1953-ем году, он пришел к нам в дом без предварительного
звонка и с порога бросил Шуре в лицо: «Сколько тебе заплатили
за то, что ты меня предал?» Шура ответил очень спокойно: «Я
тебя не предавал». Алик привел неопровержимый, с его точки
зрения, довод: «Ведь мне же на допросе предъявили мои стихи. А
я прекрасно помню, как ты их записывал, пока я читал, и
переспрашивал, если не успевал». Тогда Шура взял из тумбы
стола стихи Алика и сказал: «Вот они, забирай и больше никогда
здесь не показывайся». Я все это время стояла как столб и
держала сына на руках.
На следующий день, когда Шура куда-то ушел, я позвонила
Алику Вольпину и попросила разрешения зайти к нему домой.
Мне казалось, что если я ему объясню, что Шура по своей
природе не способен на подлость, они с Шурой помирятся и все
уладится. Он встретил меня с хитрой улыбкой и на все мои
доводы отвечал, что я – заинтересованное лицо и мои объяснения
не являются доказательством Шуриной невиновности. Он
приводил еще предъявленное ему слово «блевотина», сказанное
им в адрес советской власти, которое мог слышать только Шура,
стоявший близко от него в тот момент, и даже рисовал мне на
клочке бумаги, кто где тогда стоял. И я ушла с тяжелым сердцем,
понимая, что я потеряла навсегда доверие человека, мне и Шуре
не безразличного.
Вскоре после этого Шура встретил у нас во дворе Алика,
который, как показалось Шуре, его караулил. Между ними
произошло бурное объяснение, в ходе которого Алик задавал ему
прокурорские вопросы, среди них и такой: «Откуда же у тебя
были деньги, чтобы ходить по ресторанам, ведь ты же тогда
нигде не работал?» И Шура в ответ обругал его последними
словами.
Вернувшись домой, Шура рассказал мне об этой сцене. А потом,
помолчав, добавил: «Но вот, что странно. Я действительно
слышал от Алика некоторые слова из числа тех, которые ему
предъявили на следствии. Не понимаю, откуда они могли это
узнать!»
февраль 2001
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Т. Б. Алисова-Локшина Юдина и Локшин
Мария Вениаминовна Юдина сыграла огромную роль в судьбе
моего мужа. В этом коротком приложении невозможно рассказать
всю историю их взаимоотношений, и я остановлюсь лишь на
нескольких моментах, которые считаю самыми важными.
М.В. Юдина и Шура познакомились в композиторском Доме
творчества «Сортавала» в августе 1949 года (они оказались
соседями в одном коттедже). Вот как Юдина описывает свои
первые впечатления от знакомства с Шурой в письме к Е.Ф.
Гнесиной от 13.08.49:
« <…> Неожиданно моими спутниками в Сортавала оказались
два молодых композитора и теоретика – М. Меерович и
А. Локшин. Я о них много слышала, об их больших познаниях и
замечательном ансамбле в 4 руки от разных превосходных
музыкантов – но реально увиденное мною превзошло все мои
предположения. Так как трудно говорить о двух лицах сразу, то я
сперва напишу о Локшине. Это несомненно человек гениальный;
в чем? Да во всем; в сочинениях, кои я пока почти не знаю, но по
«почерку» видно – что это; по уму, а я видала, дорогая Елена
Фабиановна, умнейших людей нашей эпохи и беседовала с ними;
по эрудиции; по скромности; по артистизму…
Не привлечь его к нам, в Ваш Институт – это значит пройти мимо
громадного явления, его не понять и не оценить. Ему все легко в
искусстве, как – в другом смысле – Моцарту – в этом громадная
сила и тайна его воздействия; могу вообразить, как его будут
боготворить студенты – надо же дать им побольше поэзии, у них,
увы, слишком много прозы…
Что он может делать? Абсолютно все: теорию, гармонию,
инструментовку, сочинение, партитурное чтение, музыкальную
литературу, наконец – ансамбль. На любом факультете. Лет ему
пока 29 отроду и может он занять пока скромное положение
ассистента. Никакого «клейма» на нем нет, он был в
консерватории, потом был просто – режим экономии,
сокращение, – и Свешников с Орвидом ведь вообще никого не
знают, не любят и не ценят. Приглашение его пройдет, я уверена,
абсолютно благополучно. Сведения еще о нем: ученик
Мясковского, кончил в 44 г. и работал ассистентом; еврей;
человек чрезвычайно серьезно больной (живет с кусочком
желудка всего…) и мужественно и весело свою болезнь несущий,
но это ведь и должно вызывать внимание к нему… И, м. б.
благодаря этому также человек особенно сверкающего
темперамента <…> »*
Самоотверженные попытки Марии Вениаминовны устроить
Шуру на работу так ни к чему и не привели, но это не помешало
их дружескому общению.
В Москве Шура и М.В. Юдина жили в тот год в одном квартале
на Беговой улице; вернувшись из Сортавалы, они продолжали
* «Мария Юдина. Лучи божественной любви». М.-СПб, 1999, с. 428.
общаться почти ежедневно. Шура делал для нее фортепьянные
переложения инструментальных сочинений Брамса, Баха, а она
их играла на своих концертах в Малом зале. (Ноты этих
переложений, к сожалению, потерялись, и, несмотря на все наши
усилия, найти их пока не удалось).
Это общение продолжилось и потом, когда мы с Шурой
поженились. Надо сказать, что Юдина все время старалась
помогать Шуре в его обычной, немузыкальной жизни. Расскажу
лишь об одном таком эпизоде. В августе 1951 года, когда у нас с
Шурой родился сын, мы оказались в скверной ситуации, так как у
Шуриной сестры Муси была открытая форма туберкулеза.
Юдина, узнав об этом, переселила Мусю жить к себе, а сама
переехала жить к знакомым; Муся жила у Юдиной до тех пор,
пока лекарства не подействовали и туберкулезные палочки не
перестали выделяться.
В начале пятидесятых Юдина часто бывала у нас, дарила Шуре
ноты, книги. При этом меня и нашего с Шурой ребенка она
игнорировала, считая, видимо, нас существами, не
заслуживающими внимания. Я же смотрела на нее как на
небожительницу, боясь сказать лишнее слово.