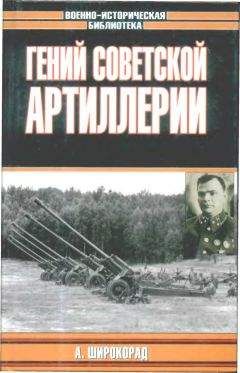Часами я затравленно кружила вокруг мольберта, не в силах что-
либо предпринять. Лицо с портрета преследовало меня, как
кошмар, где бы я ни находилась. Оно проживало самые
противоречивые фазы. Живость, усталость, любопытство,
неприязнь, насмешка, равнодушие – и безграничная скорбь. Мне
никак не удавалось его усмирить, оно прятало как раз то, что я
искала с отчаянным упорством. Это становилось совершенно
невыносимым, временами я начинала ненавидеть портрет – за его
власть надо мной, за неповиновение, наводившее на мысли о
колдовстве или порче.
Мольберт стоял в комнате, наискосок от входа, прямо под
дурацкой люстрой – свет был плоский, невыразительный и очень
неудобный. В прихожей, куда выходила дверь, висело на стене
зеркало. Как-то, собравшись на улицу и одевшись, я подошла к
зеркалу и содрогнулась от ужаса, увидев отражение портрета за
распахнутой дверью – это был полный провал. Меня подмывало
подойти к телефону и одним звонком прекратить пытку,
сообщив, что портрет не удался, и я оставляю всякие дальнейшие
попытки. Уверена, ко мне никто не стал бы относиться хуже!
Так или иначе, зловредному розыгрышу пора было положить
конец. Я не могла больше решать этот ребус в одиночку. Портрет
надо было спасать.
* * *
Холодную зиму Александр Лазаревич переживал тяжело. Я с
нетерпением ждала возможности вновь его увидеть. Моя битва с
химерами могла меня доконать. Необходимо было глотнуть из
источника, уточнить впечатление, проверить глазами детали.
Когда, наконец, этот день настал, я весь вечер не сводила глаз с
такого уже знакомого лица. Хотя теперь оно открывалось мне
гораздо глубже, в нем, казалось, вовсе не было загадок, ни следа
того бреда, который я ежедневно наблюдала на портрете и
который отравлял мне существование. Я пристально
вглядывалась в каждую мелочь и мысленно задавала свой вопрос.
Меня спрашивали, как двигается работа и скоро ли можно
увидеть готовый портрет. Я была в замешательстве и не могла
ответить ничего внятного. Сказала, что есть некоторые
трудности. У меня был последний шанс запомнить - впечатать,
вживить, имплантировать, усвоить намертво, в кровь - все, что я
вижу, понимаю, чувствую. В метаморфозах, происходивших с
портретом, мне чудилась какая-то опасность, с которой я
обязательно должна была справиться.
В промороженном троллейбусе, который вез меня к метро, я
рыдала от злости и отчаяния, как будто от меня зависело что-то
невообразимо важное, а я была бессильна и совсем не знала, что
делать.
* * *
Мне не вспомнить точно, когда химеры начали отступать. Это
произошло само - из глубины, из-под пройденных наслоений
медленно стал проступать истинный рельеф. Душившее меня
бремя недостижимого совершенства постепенно таяло, перетекая
на картину и возвращая мне свободу. Настал момент, когда
неожиданно, как всегда, я поняла, что мне здесь делать больше
нечего, разве что поставить подпись.
Я знала, что теперь портрет верен – настолько, насколько его
модель отразилась в моем переживании. Вопрос был в том,
соответствует ли это отражение восприятию других людей,
знавших Александра Лазаревича ближе и дольше, чем я.
Углубившись в работу, я могла отчасти утратить объективность.
Было неизвестно, как отнесется к портрету сам Александр
Лазаревич, узнает ли себя. При первом взгляде на свое
изображение почти все испытывают шок – разной степени
серьезности. Восприятие постороннего человека – а только
художник может по-настоящему дать представление о своем
восприятии – часто оказывается неожиданным, дает
непривычный ракурс, а главное, сильно отличается от знакомого
отражения в зеркале. Надо обладать известной широтой взглядов,
чтобы принять точку зрения извне, и иногда на это уходит
значительное время.
Как только картина хорошо просохла, я отвезла ее на
«смотрины». Должна сказать, я даже не ожидала, что портрет
настолько понравится. После удивленной паузы Александр
Лазаревич произнес своим хрупким бесплотным голосом: «Я и не
смел надеяться, что мне в жизни еще выпадет такой подарок». Он
добавил, что видит в своем портрете и мои черты, и считает, что
это делает его еще лучше.
* * *
Моя первая выставка в Москве открылась 31 марта 1987 года в
ДК Института им. Курчатова. Конечно, я не смела предполагать,
что Александр Лазаревич, уже много месяцев не покидавший
квартиру, выберется взглянуть на картины. Тем более бесценным
подарком стало для меня его посещение. Я не сразу поверила
собственным глазам, увидев его вместе с Татьяной Борисовной в
подъехавшем такси.
С остановками он добрался до выставочного зала и, открыв
дверь, застыл на пороге. Картины мои он до этого видел на
слайдах, но здесь, настоящие, живые, они, конечно, выглядели
иначе. Осмотр занял много времени, а после, отдохнув,
Александр Лазаревич взял книгу отзывов и, с трудом усмиряя
непослушную руку, сделал запись: «Ошеломляющее впечатление
от выставки. А. Локшин».
* * *
Закрыв первую выставку, я сразу начала перевозить картины на
следующую, в Музей им. Глинки. Времени ни на что не
оставалось, но мне было известно, что дела у Александра
Лазаревича идут все лучше, а однажды Татьяна Борисовна
сообщила, что он впервые после длительного перерыва пробовал
играть на фортепиано.
После окончания второй выставки я доставила портрет обратно.
Теперь отпечатку надлежало постоянно находиться рядом с
подлинником.
* * *
Последнюю нашу встречу я запомнила особенно хорошо.
Александр Лазаревич показался мне окрепшим, по-новому
спокойным. Было заметно, что он постепенно начинает входить в
общий будничный ритм жизни. Неожиданно он заговорил о
душе. Он сказал, что в последнее время часто об этом думает,
ему хотелось бы как-то выяснить, есть ли душа и что же все-таки
это такое? «Конечно, – сказал он, – мы ведь привыкли считать,
что это выдумки. Я могу верить в существование только таких
вещей, которые можно измерить, потрогать, взвесить. – Его
тонкие пальцы постучали по краю стола. – Мы материалисты, мы
доверяем только тому, что может быть научно подтверждено. И
все же в последнее время я часто думаю: а вдруг я ошибаюсь?»
Ему было неловко, он говорил небрежным тоном, как бы
стараясь показать, что вообще-то не придает значения всякой
ерунде. И вдруг, прервав рассуждения, глядя с неожиданной
робостью, спросил прямо: «Таня, а вы как думаете, душа
существует?»
Ему надо было немедленно, сейчас же получить ясный
окончательный ответ. Я посмотрела ему в глаза и очень серьезно
ответила: «Я думаю, это единственное, что действительно
существует». Я постаралась придать словам весомость: сейчас
ему ОЧЕНЬ НУЖНА БЫЛА ДУША.
* * *
Я вновь уехала в Ленинград и не собиралась возвращаться в
Москву: мои столичные дела были завершены.
10 июня, в благодатную пору белых ночей, ко мне из Москвы
приехала подруга, и мы решили прогуляться, любуясь
разведенными мостами. Всю ночь бродили по набережной и к
дому повернули уже около шести утра.
Мы шли молча. Было тихое прозрачное утро, еще безлюдное, с
косыми полосами солнца на мокром после поливки асфальте.
Проходя через Марсово поле, я заметила мелкую потерю: из
браслета выпал камешек, простая стекляшка. И я никак не могла
понять, отчего такой пустяк вызвал вдруг отчаянно-щемящее
чувство непоправимости. С этим чувством я вошла домой.
Это было утро 11 июня, и в девять часов зазвонил телефон.
1998