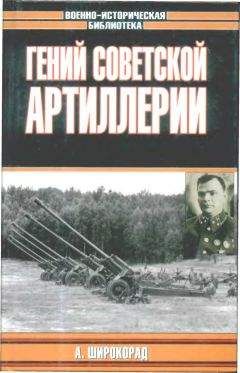собственная уже почти подошла к концу. До этого я никогда не
слышала о нем, я не знала, каким он был до нашей встречи, как
жил, что любил и о чем думал. Даже и сейчас мое представление
об этом весьма приблизительно.
История нашего знакомства насчитывает без малого девять
месяцев и связана в основном с тем, что я писала его портрет:
сначала готовилась к этому, потом занималась непосредственно
картиной, а потом успела показать ее на двух своих московских
выставках.
Прошло всего две недели после последней из них, и я только-
только вернулась в Ленинград, когда Александра Лазаревича не
стало.
* * *
Надо заметить, я очень редко пишу портреты. Не потому, что это
«не мой» жанр, наоборот, я очень ценю каждую такую
возможность. Дело в том, что в живописи меня меньше всего
интересует живопись. Мой двигатель – сам предмет искусства, и
герой привлекает меня прежде всего как носитель определенной
жизненной философии, нравственной идеологии универсального
порядка: в основном это музыканты, именитые и безымянные, в
большой мере обезличенные персоналии «небесного воинства»,
такие, какими мы видим их, когда они отрываются от бытовой,
суетной своей человеческой зависимости и превращаются на
наших глазах в непререкаемых пророков и медиумов.
В другом случае это может быть только индивидуальность
высокой внутренней ценности и чистоты, как совершенный
образец homo sapiens, вещь в себе, самодостаточная единичная
вселенная в уникальном личностном выражении. Такие
человеческие шедевры я истово ищу повсюду и всегда. Это само
по себе огромная редкость, как все совершенное. А возможность
приблизиться, познать такую вселенную возникает, разумеется,
еще реже.
С первого взгляда я угадала в Александре Лазаревиче
вожделенный мной шедевр, откровенный, безусловный
подлинник. Мне неизвестно, был ли он таким и раньше, как это
случается иногда, когда человек сразу появляется на свет с
кристальной душой, или таким его сделал весь
предшествовавший жизненный опыт. Это не имело значения.
Передо мной был результат, который я приняла с абсолютным
доверием.
В моей живописной практике портрет А. Л. Локшина и по сей
день остается исключительным примером взаимодействия
особого рода, у меня больше не было случая столкнуться с чем-
либо подобным.
* * *
Все началось в конце сентября 1986 года. Я ехала в Москву,
собираясь задержаться там как можно дольше. Стоило
воспользоваться поездкой, чтобы получше освоить столичную
музыкальную среду. Знакомых музыкантов в Москве у меня было
немного, и я просила своих ленинградских друзей дать мне
ориентиры, рекомендации.
Борис Тищенко был одним из первых, к кому я обратилась.
Услышав мою просьбу по телефону, он сразу сказал: «Если вы
будете в Москве, вам обязательно надо встретиться с Локшиным,
Александром Лазаревичем. Это замечательный композитор и
совершенно необыкновенный человек. Вот бы чей портрет
написать! Дмитрий Дмитриевич очень ценил его как музыканта.
Если хотите, приходите в Консерваторию, я как раз собираюсь
дать студентам послушать его музыку, вам тоже будет интересно.
Заодно дам адрес».
Как лекция, так и музыка произвели сильное впечатление. Но
все-таки: портрет – вещь серьезная, и я остерегалась делать
выводы и давать обещания авансом. Когда дело касается
профессиональных интересов, я могу полагаться только на
продуманное решение.
Тищенко сказал, что уже отправил в Москву письмо, где
предупредил о моем приезде. Он добавил, что Александр
Лазаревич очень болен, вряд ли можно ждать, что он поправится.
Недавно его частично парализовало, он не поднимается с постели
и даже не может говорить – за него разговаривает жена.
Откровенно говоря, я с трудом представляла себе встречу с таким
больным композитором.
* * *
Оказавшись в Москве, я не сразу решилась позвонить - а что,
если мое появление окажется некстати и только усложнит
положение? Все же после некоторых колебаний пришлось
набрать номер.
Вспоминая тот первый звонок и все, что последовало за ним, я и
сейчас испытываю глубокое волнение. С тех пор прошло больше
десяти лет, и все эти годы я не находила в себе достаточной
душевной устойчивости, чтобы вновь погрузиться в переживания
того времени, испытать их остроту. Теперь, когда я отважилась
писать об этом, я стараюсь настроиться как можно более
формально, сохраняя безопасную дистанцию.
* * *
В трубке чуть слышно звучал неровный, слабый, как шелест,
глуховатый голос, почти шепот. Его было больно слушать,
казалось, что он прервется прямо сейчас. Я почувствовала себя
ужасно виноватой, что позвонила. Но тут же разговор
перехватила Татьяна Борисовна, и ее тон, уверенный и
приветливый, подбодрил меня. Мы договорились о встрече.
* * *
В этот дом я странным образом всегда опаздывала, хотя вообще
это не моя привычка. Первый мой визит был отмечен почти
двухчасовым опозданием! Татьяна Борисовна по телефону
подробно описала маршрут, но от растерянности в дороге у меня
все как-то не сходилось: я попадала не на те линии, не в те
троллейбусы, уезжала в обратном направлении, выходила не на
тех остановках. Ужасаясь своей внезапной расхлябанности,
обезумев от оплошностей с транспортом, путаясь в
расположении домов и подъездов и, наконец, попав на нужный
этаж, оказываюсь в темноте: на лестнице нет света. Долго ищу
зажигалку, долго при слабом огоньке, обжигая пальцы, ищу
дверь в квартиру, долго не могу найти звонок. Готовая к
холодному приему, нажимаю на кнопку.
Дверь открывается, и сразу все преображается. Меня встречают
так тепло и радостно, что я тут же забываю свои несчастья. Как
это прекрасно - вся семья выходит встречать гостью: как будто
меня здесь уже заранее любят, как будто я ужасно важная
персона.
А когда я вижу медленно приближающегося по коридору
Александра Лазаревича, внутри что-то резко щелкает, как
совпавшие стрелки часов.
Почти невесомый, почти бестелесный, едва стоявший на ногах,
опиравшийся правой рукой на палку, а левой державшийся за
стену, колеблемый, как осенний лист, малейшими движениями
воздуха, он показался мне не столько больным, сколько безмерно
изнуренным и обессиленным страданиями, бесплотным, как
легкая дымка, со светлым взглядом, полным по-детски открытого
внимания и доверия.
Впервые увидев его лицо, я была совершенно околдована его
почти вызывающей утонченностью. В нем было нечто, чего я
раньше нигде не встречала – я бы назвала это «печать чистых
мыслей». Надо бы подобные лица вносить в Красную книгу и
охранять, как святыню. Мне оно казалось совершенно
нереальным - как звук, который можно видеть глазами. Но вот,
оно прямо передо мной, я его УЗНАЛА, и это вызывало
мистическое чувство вмешательства свыше.
* * *
Я моментально влюбилась в эту семью, в этот дом. Меня
покорила атмосфера искреннего внимания и
доброжелательности. И какая находка – семья, где все понимают
и поддерживают друг друга. Каждый раз, когда я туда звонила,
первое, что я слышала - кто бы ни взял трубку – был вопрос:
«Таня, когда вы к нам придете?» В супружеской паре была
заметна особая сплоченность, глубокое внутреннее родство,
которое, как правило, создается близостью перед лицом общих
испытаний.
* * *
О портрете заговорили в первый же вечер. Я не могла обещать
ничего конкретного, но уже точно знала, что пришла не
напрасно. Это был мой «небесный заказ» – как будто я
причастилась, проглотив сжатую пружину, которая рано или
поздно, в свой срок, неизбежно должна начать раскручиваться.
Не рассуждая о том, какую форму примет работа, я решила
действовать по обычной схеме, и первое, с чего надлежало начать
– это насквозь пропитаться дымом нового костра, войти в
резонанс: узнать-усвоить-полюбить. Только после этого
начинается творчество.
* * *
Время шло. Александр Лазаревич постепенно перестал
пользоваться палкой и мог спокойно ходить по квартире. Он
старался проявлять подчеркнутое гостеприимство, оказывать
маленькие услуги. Теперь он со всеми сидел за ужином.
Ужин – это было обязательно. Стоя на кухне, Александр
Лазаревич терпеливо ждал, когда я вымою руки, а затем
приглашал за стол. «Таня! Проходите. Садитесь на ПРИСУЩЕЕ
вам место!» Такова была неизменная формула. «Присущим» мне
местом на маленькой кухне стал стул у стены, зажатый между
столом и чем-то еще. Александр Лазаревич сидел обычно тоже у