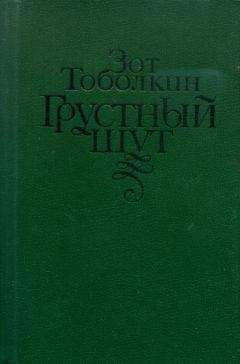Л ю б а в а. Хватит, мама, хватит!
М а т р е н а. Хватит, да не того! Вертишься день-деньской веретеном, так веретено-то безмозглое! И сердца у него нету. Ты ж человек, Любава. А человеку свет нужен! Свет и все человеческие радости.
Л ю б а в а. А мне своих хватит! У меня (ребром ладони по горлу) вот сколько! (Взглянув на мать, мягко.) Недавно орденом наградили, и вообще… вообще… (Вышла.)
М а т р е н а (покачивает головой). То-то что вообще.
Г о л о с и з р е п р о д у к т о р а. «Любо-овь, любо-овь…»
Затемнение.
На берегу Пустынного озера. Входит И в а н.
И в а н. Я женился, и закрутило меня, завертело… Некогда было остановиться и спросить себя: «Чего ради живешь на земле, Иван Рушкин?» Ложусь спать — одна мысль: работа. Встаю — о том же думаю. А есть еще что-то кроме. И это «что-то» незаметно исчезло. Оно исчезло не сию минуту. Но потерю я обнаружил вот только что. Я пытался видеть в Любаве постороннего человека, внушал себе это и… лгал. (Пауза.) Однажды мы встретились с ней на берегу у Пустынного. Как раз журавли прилетели… Нас потянуло друг к другу невидимым сильным магнитом… Мы ничего не слышали. Пустынное бушевало. Волны, перехлестывая через плотину, стекали в овраг, пробивая в черном снегу черные дыры… В сторонке лежал кем-то подбитый журавль. Плотника вздрагивала… Мы не слышали…
Л ю б а в а. Нарушила я свой запрет… Ох, Ваня, что же ты делаешь со мной?
И в а н. Люблю тебя, Любушка. Дышу тобой… и не могу надышаться.
Л ю б а в а. Жену твою обворовываем, себя обворовываем. Нечестная наша любовь, Ваня!
И в а н (поникнув). Разве я в этом виноват, Люба?
Л ю б а в а. Я тебя не виню. Вообще никого не виню. Но люди расплачиваются за все на свете. За все.
И в а н. Перестань, Люба! Мне так славно! Не думал, что снова у нас завяжется. Как же нам быть-то теперь?
Л ю б а в а. А никак. В последний раз видимся…
И в а н. Ты что, Люба? Ты что?
Л ю б а в а. Я в город еду.
И в а н. Под землей тебя разыщу!
Л ю б а в а (качает головой). Что не мое, то не мое… Прощай, Ваня! Прощай и прости. Не сложилось у нас.
И в а н. А как же я, Люба? Как мать? Ее тоже с собой возьмешь?
Л ю б а в а. Ее не сдвинешь… вросла корнями. А у меня корни подрублены, Ваня. Чем жить тут, лучше в Пустынное с берега… (Подобрав убитого журавля, уходит.)
И долго еще видно их, двух смертельно раненных птиц.
И в а н. Любушка… Любушка… зорька моя вчерашняя…
Возле избы Матрены.
Х у д о ж н и к с холстом под мышкой подходит к тетке М а т р е н е, которая смотрит из-под ладошки вдаль. Там, где-то за озером, только что потерялись из виду внук и Любава. Что их ждет — неизвестно. Здесь, в Чалдонке, будет ждать мать. Ждать до последнего часу.
Х у д о ж н и к. Уехала?
М а т р е н а. Ушла… будто и не было.
Х у д о ж н и к. Возьмите вот это. Дорисовать не успел. (Разворачивает холст, на котором портрет Любавы.) Хотел себе сохранить… не могу. Возьмите.
М а т р е н а. Только и осталось. С картинкой вечера коротать буду. Вечера-то у меня долгие.
Х у д о ж н и к. Тут люди вокруг, тетенька, хорошие люди. Все любят вас, все уважают. Так шо не огорчайтесь.
М а т р е н а. Ну ладно… ладно… вечеров-то осталось немного…
Занавес
1967
ДРАМА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАИГНАТ МАНТУЛИН.
ГРИНЬКА (ГРИГОРИЙ) его сын.
КЛАВДИЯ ХОРЗОВА.
НИКИТА ее муж.
ДОМНА АТАВИНА.
АНДРЕИ ЛУЖКОВ.
ВЕРА.
НАДЕЖДА РЕШЕТОВА.
ПЕТР ее сын.
ГАЛИНА.
ДАРЬЯ.
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА.
ВТОРАЯ ДЕВУШКА.
ТРЕТЬЯ ДЕВУШКА.
ПАРЕНЬ.
1
Дорога, уходящая в гору. Вдоль дороги дома. На самом лбу взгорыша унылое сельское кладбище. У подножия — кузница.
Начало действия относится к весне сорок пятого года. Этой весной возвращались с войны два тридцатилетних солдата. Оба меченые, но живые — немыслимое везение! Двое из всей Бармы. А уходило полсотни мужиков и парней.
Возвращались. У И г н а т а кроме шрамов под соломенными висками — ордена, среди которых две Славы. Да и Н и к и т у наградами не обидели. Ранами тоже. Левое плечо западало. Нога сгибалась худо. До рези в глазах всматривались в родную деревню. Вот она, Барма, бедная, вдовая. И крестов на кладбище, кажется, прибавилось. Но солдатам не до покойников. Война приучила к мысли о том, что смерть, как сидор солдатский, постоянно за плечами.
И г н а т. Ну вот и дома… дома! Поди, не ждут уж, а?
Н и к и т а. Немудрено. Пятьдесят человек призывали, а сколь из полусотни-то уцелело? Тот погиб, тот без вести пропал…
И г н а т. И меня потеряли, наверно. Полгода по госпиталям валялся. Думал, не выкарабкаюсь.
Н и к и т а. Потеряли… могли потерять, ежели не шибко ждали. А ежели ждали — не потеряют.
И г н а т. Ждут! Я знаю, меня ждут! Может, встречать вышли. И я вот он. Явлюсь и, как положено по уставу, отрапортую: «Сержант Мантулин прибыл в полное ваше распоряжение. Разрешите сменить автомат на поручни?»
Н и к и т а (нервно расправив длинные усы). С такой выкладкой в плугари? (Ткнул в Игнатовы ордена.) Да по твоим заслугам надо бить в колхозные председатели, если не выше. Будь у меня столько отличий, я бы в район пробился.
И г н а т. Кого я там не видал, в районе-то? Дома всего милей. Каждая кочка — родня. Пойду в бригаду, к земле поближе.
Н и к и т а. Родня, родня! Мало ли что родня! Не за здорово живешь воевали! Четыре года судьбу испытывали: нынче — здесь, завтра — к боженьке в рай. А ротный писарь сопроводиловку сочинит: «Пал смертью храбрых…» Родня… Четыре года со смертью в обнимку. Не то что тело, душа закирзовела… озлела до невозможности.
И г н а т. Ничего, возле земли оттаем помаленьку. Теперь хошь не хошь — доброте учиться надо. Такая история.
Н и к и т а. В мешке-то гостинцы? Туго набит.
И г н а т. Овес. Лежал как-то перед артподготовкой на поле — нажелудил. Хоть и не положено вещмешок забивать несписочным имуществом, а выбросить жалко. Хлеб же…
Н и к и т а. Все такой же блаженный!
И г н а т. Мне всю войну одни сон снился: поле израненное. А я его врачую. Вот, сон в руку. (Зачерпнул из-под ног земли горсточку, попробовал на язык.) Солона!
Н и к и т а (усмешливо). Не нанюхался за четыре-то года? Айда! Эка невидаль — солонцы бросовые.
И г н а т. Бросовые — так. (Вроде бы не ко времени вздохнул.) Омертвела земля!
Н и к и т а. Нашел о чем сокрушаться! В Сибири окромя солонцов земли вволю.
И г н а т. Никудышные мы хозяева! Вот немцы — враги, а гляди: у них каждый клочок обихожен и в дело пущен.
Н и к и т а. Ну ты! Вяжи лыко к лыку! Нашел кого в пример ставить!
Разошлись. Смиренной улочкой Игнат направился к своему дому с тополем под окном. На тополе скворечник. Дом отпугнул заброшенностью. Калитка сорвана. Окна без стекол. И никто не вышел навстречу. Что ж вы, ноги, через три земли отшагавшие, оробели на своей, на близкой, земле? Из ограды выбежал пес. Старчески гаркнул, лизнул в руку.
И г н а т. Здорово, Трезор! Трезорушка. Не помолодел ты за эти годы! Где хозяйка твоя? Где Гринька?
Трезор виновато завилял хвостом. Во дворе кто-то завозился, окликнул собаку. Это Г р и н ь к а, мальчишечка лет десяти. В руках у него аккуратно стесанный камень.
Г р и н ь к а. Трезор! Ты куда подевался, блудень?
Трезор кинулся на зов.
И г н а т. По хозяйству хлопочешь, мужичок?
Мальчик медленно подался назад. В его осторожном движении, в напряженных узких плечиках, во всей его сжавшейся фигурке было столько взрослого недоверия, беды, покинутости, что Игнату стало жутко. Вот шейка вытянулась, извилась. Из-за плеча показался нос, навесистая отцовская бровь, глаз, рот, растущий в отчаянном крике…
Г р и н ь к а. Тя-я-тя-я! Тя-ятенька-а-а! (Уронив камень, метнулся к отцу.)
И г н а т (нацеловывая сына). Ну, Гриня, ну, золотко! Чего ж ты так испугался-то?
Г р и н ь к а. Живой? Родненький… родненький! Живой! А-ах!
И г н а т. Как вырос-то! Как вырос! Не узнать: удалец, витязь!