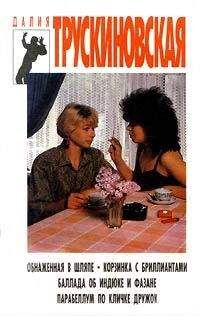вязов,
Тонул закат в пучине белых линий –
Мы шли по саду под твои рассказы
О музыке Пуччини и Беллини,
Италии, бессмертии и смерти –
Я любовалась видом шапок крупных
Гортензий бледных, ну а ты о Верди
Мне говорил — луна прозрачным кругом
Плыла, была волшебна ночь… Красиво
Склонялись грозди призрачных соцветий
Старинных роз — а ты мне о Россини
Плёл вдохновенно, и о Доницетти –
Ты был в ударе: вспомнил Альбинони,
Adagio и что-то о Джадзотто –
Левкои пахли амброй и лимоном,
Акации дрожали позолотой…
Меж тем дошли мы до беседки старой –
Клематисы решётку овивали,
Пьянил их запах, жук жужжал устало –
Здесь речь зашла, конечно, о Вивальди –
Светились каллы, стыли хризантемы,
Фиалки в лунном свете тосковали –
Ты толковал мне о Леонкавалло
И напевал фрагменты из «Богемы» –
А я тебе сказала: вот что, моцарт,
Забудь на миг богему и паяцев –
Ты чувствуешь, как я, наплыв эмоций?
Давай же будем просто целоваться!..
К несчастью, неопровержимый факт:
жизнь к тридцати уже не жизнь, а фарс –
ты понял всё, пролил немало слёз –
и жизнь не можешь принимать всерьёз;
всё, что ты знал, чему учился ты,
бледнеет перед блеском красоты
и шармом женских глазок, губ и ног –
они теперь важней стихов и нот,
музеев, книг, театров, галерей,
и ты бросаешь всё — скорей! Скорей!
Туда, где жизнь похожа на игру,
где путь твой как-то вдруг замкнулся в круг,
где крутится удачи колесо
и от любви к любви тебя несёт;
ты не заметил, как попался в плен
пушистой чёлки, родинки, колен –
от этих нимф, дриад, наяд, сирен
башку реально сносит набекрень…
Нет времени на Баха и Камю,
но есть на ресторанные меню,
на тайный мир приставок игровых
и на красавиц знойных роковых;
и ты, философ, интеллектуал,
в прелестную влюбился этуаль:
она смеётся, песенки поёт,
и из таких, как ты, верёвки вьёт,
прекрасно зная силу чар сама,
когда от ног её ты без ума;
а тут ещё помощник — алкоголь,
всё это называется любовь –
и ты сгораешь от такой любви…
Терпи теперь, что делать? Се ля ви!
И кружит эйфории круговерть,
мешая страсть, безумство, жизнь и смерть…
Либидо побеждает интеллект;
но через год ли, два ли, десять лет,
как будто рак вдруг свистнет на горе –
ты закричишь: "Карету мне, каре..!
Коня! Да что там конь — велосипед!" –
Прочь от фальшивых целей и побед –
туда, где тишина, к себе, назад,
где можно шкаф открыть и книгу взять,
туда, где жизнь понятна и проста,
где всё начнётся с чистого листа…
Его я обнаружила случайно:
я занималась в тот сезон ремонтом
на даче — шли дожди, и он безмолвным
ствола обрезком, грустным мокрым монстром,
лежал меж луж и мусора печально;
но отразилось солнце как-то в лужах
и цветом золотистым осветило
мой сад и тот чурбан среди опилок –
и тут меня как молнией пробило –
я осознала, что чурбан мне нужен…
Его кора, как крокодилья кожа,
была темна, шершава и брутальна;
я взглядом оценила моментально
и мощь его, и силу, и надёжность,
и красоты его монументальность…
Я признаю вещей антропоморфность –
хоть, может быть, они не знают боли,
и пусть ни сердца нет у них, ни мозга,
я чувствую мистическое поле
и их энергетическую мощность;
вот, например, в зелёной узкой вазе
когда-то было тесно от пионов –
был друг со мной, счастливый и влюблённый,
но нет его — с тех пор в стекле зелёном
других букетов не было ни разу –
антропоморфна узкой вазы зелень –
я чувствую незримые флюиды
её любви, и горя, и обиды –
предмет духовен, этим он бесценен,
хоть для кого-то — просто ваза с виду…
Вот так же мой чурбан был полон жизни –
бывало, я рукой его поглажу,
и чувствую тепло его и тяжесть,
и думаю: возможно, это шиза,
но как мне одиноко и паршиво…
В простенке возле шёлковой портьеры
он был пристроен столиком диванным,
но даже в освещении торшера
не стал он украшеньем интерьера
и выглядел, признаться, очень странно –
красивый пень… Я словно впала в детство –
он не был для меня простой корягой,
и было мне тепло с корягой рядом,
и я, забыв про всё моё эстетство,
любила это грубое соседство;
он был так ясен, мил и незатейлив
в своей простой естественной природе –
средь современных мебельных изделий
казался иноземцем, чем-то вроде
омеги между русских знаков в ворде…
Мне было с ним уютно — я любила
поставить на него графин и рюмку
и, скинув опостылевшую юбку,
под тёплый плед в холодный вечер юркнуть
и вспоминать того, о ком забыла –
от нежности катились слёзы градом,
он отвечал мне удивлённым взглядом
зрачков на месте удалённых сучьев –
их было три, один другого лучше –
сочувствовала мне моя коряга…
Одно лишь было плохо: он царапал
паркета полированную гладкость
и рвал чулки, смолой, к тому же, капал
в пушистый шёлк ковра — и я ругалась
и не могла отчистить эту гадость…
Он рос в лесу далёком, за деревней,
глухой старообрядческой и древней,
он елью был тогда или сосною,
и там, в тиши, во мгле среди деревьев,
не ведал он, что встретится со мною…
Откуда было знать ему, бедняге,
про женщин, про манеры и галантность?
В иные помещённая пространства,
про ценность пола и свою нескладность
что понимать могла моя коряга?
И я, признав, что чистота дороже,
чем всякие дурацкие причуды,
решила, что лесное чудо-юдо –
чурбан, пусть и любимый и хороший –
пора бы, наконец, убрать отсюда…
И хоть мне расставаться было жалко
с любимым пнём моим, но всё же скоро
сдалась я, и отправила за город
его туда, где за глухим забором
расположилась мусорная свалка…
Дом опустел… Во всём царил порядок,
ковёр погибший выброшен в помойку,
и пол отмыт наёмной поломойкой,
натёрт до блеска, чисто и опрятно,
и не вернуть теперь чурбан обратно…
Мне было грустно в доме опустелом –
я думала — ужели в этом дело,
что мой чурбан мной выброшен