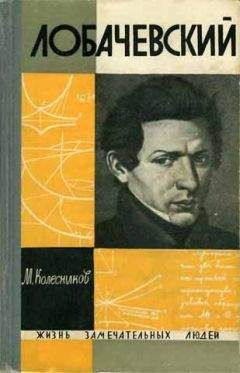6. ЛЕСГАФТ
…Лицо, позволившее себе подобный поступок… не должно быть терпимо на учебной службе…
Докладная записка министра просвещения Д. А. Толстого по поводу статьи П. Лесгафта в «Санкт-Петербургских ведомостях», разоблачавшей порядки в Казанском университете
Резолюция царя: «Разумеется, уволить, не допускать».
Каждое произвольное действие очень грустно, но еще грустнее и прискорбнее, если от произвола и беззаконных действий нет защиты, если отказываются не только разбирать, но и слушать о том, что делается…
П. Ф. Лесгафт
«Зачем вы,
милейший Петр Францевич,
в крамольные влезли дела?
Любовь к либеральненьким фразочкам
до глупостей вас довела.
Накладно в политику впутываться.
Сожрут при гарнире любом,
лишь будут выплевывать пуговицы».
«Не выплюнут…
Все же с гербом».
«При вашем таланте анатома
карьеру испортить в момент!
Зачем, объясните?»
«А надо ли?
Ведь совесть для вас
рудимент».
«Так, значит, подлец я?»
«Не полностью.
Вы полностью трус
это да,
а трусость издревле
для подлости
питательная среда».
«Но есть и стратегия тонкая.
Порою разумнее — вспять.
Прославлен бывает потомками
лишь тот,
кто умел отступать.
Бессмысленна удаль строптивая».
«Но часто,
когда мы хитрим,
красивое имя «стратегия»
для трусости лишь псевдоним».
«Протесты писать не наскучило?»
«Немножко».
«Совсем надоест.
Не стоит открытья научного
любой социальный протест.
Не рухнет стена,
если крикнете».
«Шатнется
довольно того.
Протест социальный
открытие
себя
для себя самого.
Пора эту стену сворачивать.
Под камень лежачий вода…»
«Течет, уверяю, Петр Францевич,
но камню спокойней тогда».
«Нет,
этот прогресс понемножечку
такой же, простите, смешной,
как йодом намазывать ножечки
кровати,
где стонет больной.
Негоже быть медику олухом.
Что весь этот гнойный режим?
Злокачественная опухоль,
а ею мы так дорожим.
К чему заклинанья магические
не спустятся духи с высот.
Вмешательство лишь хирургическое
Россию, быть может, спасет».
«Кромсать по живому?
Опасности
не видите?»
«Вижу. Я трезв.
Но следует скальпелем гласности
решительный сделать надрез».
«Да где вы живете,
Петр Францевич?
Забыли, наверное,
где.
В России
о братстве и равенстве?!
Попросит сама о кнуте!
Цензура размякнет хоть чуточку
что будет печататься?
Мат?
Распустим полицию?
Чудненько!
Все лавки в момент разгромят.
И стукнет вас,
крякнув озлобленно,
очки ваши вроде не те!
ваш брат угнетенный
оглоблею,
как символом «фратерните».
Все это
холодный мой рацио,
плоды размышлений
увы!
Но в будущем нашем,
Петр Францевич,
скажите,
что видите вы?»
«Я вижу Россию особенной
Россию без власти кнута,
без власти разбойно-оглобельной
мне чужды и эта и та.
Но будет в ней власть не ублюдочная,
а нации лучшая часть».
«Наив…
Ни сегодня, ни в будущем
не может народной быть власть.
Народ — это быдло,
Петр Францевич,
и если порою народ
ярмом недовольно потряхивает,
то вовсе не в жажде свобод.
Ему бы
корма образцовые,
ему бы
почище хлева…
Свобода нужна образованному,
неграмотному — жратва.
Зачем ему ваши воззвания?»
«Борьба за свободу — сама
великое образование».
«А может, лишь смена ярма?!»
«Стращаете?
Я — с оптимистами.
Еще распахнется простор,
еще государыней Истина
взойдет на российский престол.
Конечно, немножко мы варвары,
конечно, немножко зверье,
и мы из истории вырваны,
но сами ворвемся в нее.
Наследники Пушкина,
Герцена,
мы — завязь.
Мы вырастим плод.
Понятие «интеллигенция»
сольется с понятьем «народ»…»
«Да будет мне вами позволено
спросить на нескромный предмет,
вы с кафедры вроде уволены,
а держитесь, будто бы нет?
Простите вопрос этот каверзный,
но я любопытен
беда.
«А я
гражданин.
С этой кафедры
уволить нельзя никогда».
Боже, как жутко жить взаперти русской душе! Простору, воздуху ей надо! Потому и спит русский человек и охвачен ленью, что находится взаперти и опутан тройными веревками; потому и чудится ему вавилонская блудница!
А. П. Щапов
Пора же, наконец, русским ученым понять, что наука может беспрепятственно развиваться лишь там, где ее учения свободны, и что такая свобода мыслима лишь в свободном государстве. На основании этой аксиомы можно сказать, что наши политические мученики делают для будущего развития русской науки больше, чем ученые филистеры, не видящие потребностей нашей современной действительности из-за реторт, летописей или кристаллов.
Г. Плеханов
«Афанасий Прокофьевич Щапов»
Афанасий Прокопьевич Щапов,
урожденный в сибирских снегах,
был в своих убеждениях шаток,
да и шаток порой на ногах.
Обучаясь не где-нибудь — в бурсе,
он в кельишке своей неспроста
проживал при вольтеровском бюсте
под растерянным ликом Христа.
И вцеплялся он в книги когтисто,
полурусский и полубурят,
от баптизма бросаясь к буддизму,
к ерундизму — враги говорят.
Он стоял за конторкой упрямо,
пол промяли его башмаки.
«Это нового столпника ямы»,
гоготали дружки-бурсаки.
Он историк был. Честный историк.
Выпивал. Но в конце-то концов
честный пьяница все-таки стоит
сотни трезвенников-подлецов.
Проститутке с фальшивой косою,
он, забавя упившийся сброд,
декламировал с чувством Кольцова,
пробуждая «дремавший народ».
А она головенку ломала,
кисть засаленной шали грызя.
Ничегошеньки не понимала
только пучила, дура, глаза.
И твой пасынок пьяный, Россия,
с ощущением связанных крыл,
как публичного дома мессия,
он возвышенно речь говорил:
«Тоска по родине вне родины
под сенью чуждых чьих-то рощ
сидит, как будто нож под ребрами,
а если выдернешь — умрешь.
Там семечками не залускано,
не слышно «в бога душу мать»,
но даже и по хамству русскому
вдруг начинаешь тосковать.
Но если хамство ежедневное
и матерщина — просто быт,
то снова, как болезнь душевная,
тоска по родине свербит.
Мне не родной режим уродливый,
родные во поле кресты.
Тоска по родине на родине,
нет ничего страшней, чем ты.
Я потому сегодня пьянствую,
как пьянствуют золотари,
что раздирает грусть гражданская
меня когтями изнутри.
Глядите, бурши и поручики,
я поцелую без стыда,
как Дульцинее, девке рученьку,
цареву руку — никогда!
Я той Россией очарованный,
я тою родиною горд,
где ни царей и ни чиновников,
ни держиморд, ни просто морд.
Чужие мне их благородия
и вся империя сия,
и только будущая родина
родная родина моя!»
Лишь казалось, что он собутыльник,
пропивает свой ум в кабаке.
Он был разума чистый светильник
у истории русской в руке.
И забыв и Кольцова, и шапку,
и приняв огуречный рассол,
Афанасий Прокофьевич Щапов
из борделя на лекцию шел.
И в Казанском университете,
как раскольник за веру горя,
он кричал: «Вы не чьи-нибудь дети,
а четырнадцатого декабря!»
«Как он лезет из кожи истошно»,
шепот зависти шел из угла,
но не лез он из кожи нарочно
просто содранной кожа была.
Как он мог созерцать бессловесно,
если кучку крестьян усмирять
на сельцо под названием Бездна
вышла славная русская рать?
И в руках у Петрова Антона
Иисуса в расейских лаптях
против ружей солдатских — икона
колыхалась, как нищенский стяг.
Но, ища популярности, что ли,
все же Щапов — не трезвенник Греч,
словно голос расстрелянной голи,
произнес панихидную речь.
И, за честность такую расщедрясь,
понесла его власть-нетопырь
через муки безденежья, через
отделение Третье, в Сибирь.
Его съели, как сахар, вприкуску,
и никто не оплакал его,
и на холмике возле Иркутска
нету, кроме креста, ничего.