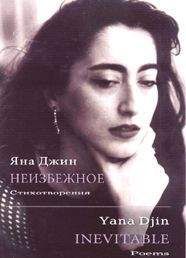(Пер. Н. Джин)
Стань невидимкой. И замри, как статуя.
Пусть время шествует сквозь плоть твою недвижную.
Подвижное разрушить легче. Ратует
подвижный череп
за движение булыжное.
(Пер. Н. Джин)
Ох, ты бесполая тоска по ничему,
в которой мы незримы и незрячи,
в которой все гадаем: почему
единой не дал Бог нам всем задачи?
Ох, в середине слов — внезапный вздох!
Ох, этот вздох, прервавший этот шёпот!
Ты ждал, — спасёт нас если и не Бог,
то суета и каждодневный ропот.
Увы, ты тоже гончей побежал
за вздохом собственным, но с Ох-ом он сомкнётся —
пронзительно единым, как кинжал,
проткнувший боль, которая вернётся.
(Пер. Н. Джин)
НЕТ, НЕ ОДНООБРАЗИЕ ПУГАЕТ
Нет, не однообразие пугает —
пугает лень его живописать…
Попытка слов придать какой-то смысл
существованию — убога:
она ему ни смысла ни придаст,
ни быть не запретит…
Так, миг за мигом
латая жизнь, остаться при своих…
На знак «равно»
взгляни, на жизнь пунктиром
меж тем что «доказать» и что «дано».
А можешь память вызвать на подмогу:
припомнить жизнь,
дорогу плюс дорогу,
или подробней: скажем, крик грача…
Без разницы. Ты выдохлась. Ничья.
(Пер. Вл. Гандельсман)
«Я умру от того, что немытый поем виноград…»
(из пьесы «Трамвай Желание»)
Больнее всего —
что равнодушию
учишься в самом расцвете жизни.
Оно неизбежно — как конец предписанный.
И вводишь его — чтобы знать наизусть —
в сердце, что подпортила грусть,
но зато забыло как надо ждать,
о собственном весе начав горевать.
Больнее всего —
что любимые самые
отучат тебя от веры,
инстинкта,
и чётко — как на учебной пластинке —
растолкуют тебе
анатомию грусти.
Они же — родня — и окажутся теми,
кто под кожу тебе
введут сомненья.
И ты, перестав их считать прегрешеньем,
скажешь себе про грусть: Ну и пусть!
Больнее всего —
что взгляд незнакомца —
когда на тебе вдруг остановится —
разбудит сердце твоё и отправит
в рифмованный и гарцующий бег
за правдой, скрывшейся на ночлег.
А если не он, не вырванный взгляд, —
то фраза, вырванная из контекста,
отбросит в юность, в забытое место:
«Я умру от того, что немытый поем виноград…»
Больнее всего —
что некому будет
тебе потом уже объяснить —
как просто было
простою причудой
душу в самой себе воскресить.
И подобно писаке, лишенному дара
увидеть главное —
но приставшему к частностям,
ты, когда растратишься даром,
пристанешь к тем, к кому непричастна.
И станешь потом, потирая затылок,
вспоминать эту фразу, как некий обряд:
«Я умру от того, что немытый поем виноград…»
(Пер. Н. Джин)
А сдаться жизни есть дело времени.
Не дело выбора. Никак.
Чем дольше ты будешь рыпаться,
тем с большею мощью в рыльце
врежет тебе судьба свой кулак.
И себе удивишься меньше,
чем быстрее отъерепенишься
и увидишь — как тихо спенишься
в существованья шлак.
Иди — отскреби себе новые сутки
под этим — тоже скребомым — небом.
Чеши асфальт. Бери у мухи
взгляд чёрно-белый. Как если б не было
других. У случайной уличной суки
бери походку: от чёрной скуки
плетётся в нескольких направлениях
сразу, — как твоё в зеркалах отражение.
Она, как и ты, живёт против лени.
Других не ведая сопротивлений.
Смотри — в эти рыхлые облака
снова вошла небоскрёба кирка.
В его подножьи большое чудовище
истекает кровью, заверяя зевак,
что Любовь — в бесконечно идущем побоище —
умерщвляет Время так или сяк.
И с предсмертным хрипом в последнем зеве
падает в ноги зевающей Еве.
Но в остальном всё спокойно и гнусно.
Спокойно и гнусно во всём остальном.
Мертвецам — и тем, наверно, скучно.
В своём чёрно-белом мире чадном
ублажаешь себя мечтою всеобщей,
картиной, одолженной у конца:
всё хорошо, никто не ропщет —
А в голове — пара унций свинца.
Но вместо банального взрыва рифмы
должная проза придёт образца,
в котором ты в той же живёшь картине:
с должным выраженьем лица
переходишь улицу с должной псиной.
Шаг у неё, как у той, — рысца.
Из вас двоих тебе, хозяину,
пристало, пожалуй, больше печалиться.
Хотя вы оба похожи крайне:
одинаково листья на асфальте давите
и одинаковая в глазах одичалость.
Но…
Всё сравнимо за исключением
тоски, одичалости, огорчения.
(Пер. Н.Джин)
СОН — РАЗГОВОР С ПОКОЙНИКОМ
Спокойно: и раньше тебе объявлялся я ночью во сне,
Нарушенном вскриком внезапным твоим в тишине.
Меня уже нет. Я ушёл. Ты осталась стоять, как вопрос.
А в комнате было темно. И по коже — мороз.
Я снова привижусь тебе среди пустоты.
С рукою простёртой, с мольбой об объятьи, но ты
Не сможешь понять, что «На береге этом» не мы
Играем на лютне. И ей не подпеть, ибо все тут немы.
Я правду сказал говоря: Небытье — это хуже, чем ад.
В опущенный занавес сцены пустой упирается взгляд.
В раскрытой ладони издохла в агонии муха.
Но хуже — что нет Небытья ни в помине, ни в духе…
Молчанье одно. Ни души. Ни руки. И живёт
Один только Тот, Кто, хихикая, чешет живот.
И вряд ли резонно молиться: не то чтобы в ус
Не станет Он дуть, — Он, как все, малодушен и трус.
Смотри: я — как было — один. И свободен тут — можно сказать.
Отдам свою смерть за привычную жизнь и кровать.
Повтор — не увечье, не зло. И не бойся клише.
О, если б один только Дьявол, — но стыд лишь в душе…
Глупец я — откладывал время всегда на потом.
Глупица ты — клала монету всё время ребром.
Покуда о встрече на береге этом мечтаешь и ты, —
Я буду дивиться живучести глупости и ерунды.
Ешё. Вот последний совет. Ты просила сама.
Попроще живи. Без капризов чувств и ума.
При слове «Прощай!» поглубже слезу проглоти.
И песню сложи ещё на колыбельный мотив.
Сложи её сыну неявленному, по пескам
Незримой пустыни бредущему к берегам
Потерянных вод — и потом перестань говорить,
Что нет, между смертью и жизнью не тянется нить.
(Пер. Н. Джин)
КОМПРОМИСС
(Песня на два голоса)
Всё забудь.
И отринь. И забудь.
Всё. Особенно плоть.
Чтоб ни слуха, ни духа.
Ничуть, —
ни слова их, ни путь,
ни их боги тем более — н? твои.
Всё забудь.
Всё своё утаи.
Всё забудь.
Что мне их «накопить» и «купить»?
«Дорожает пожрать и попить!»
«Дай!» — бабёнке под юбку (она
не упорствует: «на»)…
Быт сильнее любви.
Карой свыше не назови
очевидное: ближе
то, что ниже.
Ниже пояса. Или травы.
Ныне, в возрасте тридцати,
обязуюсь быть тише воды,
в ноги сильных мира сего
падать, более ничего
не иметь с нищетой босяка, —
тем, что кормится воздухом сквозняка.
Обязуюсь утешить родных,
как дитя, пребывая при них.
Чем не скука (не сука) в законе?
Точка. Без вопросительной вони.
Не люблю ни тоски, ни мозги
не люблю, не люблю мелюзги,
слёз, а также дорог, где ни зги, —
совершая одну из карьер
человеческих: с места — в карьер.
(Пер. Вл. Гандельсман)
Аккорд.
Но не лихой. Глухой.
Дни начинаются, уходят
с кивком ленивым головы и с вроде
в себя же обращённым взглядом.
Поскольку глаз, лишившийся отрады
увидеть целое, предпочитает отступать.
Ступая, отмеряешь в шаг? почвы пядь опять,
и машинально, ни с того и ни с сего,
шальные и безадресные мысли
захламливают головы твоей совок.
Есть среди них и те, что прежде грызли
тебя, пока в конце концов они
не стали вдруг иголочно точны
и перестали быть источником хлопот.
Вот подметальщик твоего двора,
а вот его метлы неспешный ход —
и нарастающий в совке обычный хлам:
бычки, осколки битого стекла
и голуби убитые вчера.
Или вот эти уходящие колонны
из проигравших бой солдат;
и цвет мундиров — монотонно
серый — на фоне пляжа зимнего; и взгляд
легко догадывается: уже давно
заброшено пространство это и сдано
тоске, проросшей тишиной и немотой,
смиреньем с несложившейся судьбой
и с тем, что реже, неохотнее прибой
на серый пляж несёт уставшую волну,
ещё одну, шипящую сквозь пену:
«Уже почти конец… Уймись: не бейся в стену…»
Но всё-таки такое лучше, лучше,
гораздо лучше истерии изменений.
Такое лучше,
ибо меньше мучит,
чем истерия ожидания, сомнений,
надежд, переложения сегодняшнего груза
на плечи завтрашнего дня,
конфуза,
которого потом не избежать,
поскольку будущее любит лгать.
Такое лучше, чем визжать и бить в ладоши,
высматривая дали в небесах:
они, как горизонт, — увы и ах, —
к твоей приплюснуты спалённой солнцем роже.
Такое лучше также простиранья рук
в прошении извечном, чтобы вдруг,
без упреждения, негаданно-нежданно,
с небес посыпалась земной любови манна.
В конечном счете, всяческого дела
важнее, лучше
открыванье глаза;
как всё кругом, и он достиг предела
переживания стыда;
ни разу
не убоится он отныне, что злодей
проткнёт и выколет его, что из людей
хотя б один заставит обронить
слезинку или схоронить
её за веками… Итак, такое — лучше,
поскольку мертвецом тебе при случае
возможно притвориться;
из сосуда,
налитого пульсирующей болью,
ты сможешь превратиться в груду
гранита серого, которую ты волен
вообразить как статую в бесцветном поле,
как памятник себе, —
и никакие голоса
уже не вынудят тебя скосить глаза.
(Пер. Н. Джин)