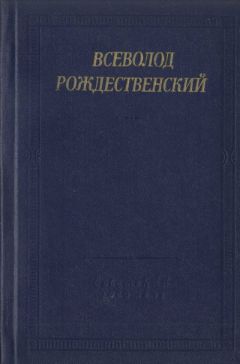6. «Заря, которая восходит над столицей…»
Заря, которая восходит над столицей,
Пророчит ясный день и тает над рекой.
Как я люблю следить за гордой вереницей
Деревьев города, обиженных судьбой!
Считая каждый миг и каждую ошибку
И не ища наград в обманчивой борьбе,
Я слышу на губах забытую улыбку.
Так легче мне идти к начертанной судьбе.
7. «У старой мельницы осеннею порою…»
У старой мельницы осеннею порою,
Когда усеет пруд опавшая листва,
А ветер будет выть над черною дырою,
Где онемевшие застыли жернова,
Я сяду на порог покинутого дома,
С плющом, взбегающим на дряхлое крыльцо, —
Пусть отражает гладь немого водоема
И солнца тусклый лик, и бледное лицо!
8. «О вечере морском я думаю в тоске…»
О вечере морском я думаю в тоске,
О пенной волн гряде, взбегающей, белея,
О лодке с парусом, о крабах на песке,
О косах нереид, о Главке, о Протее.
О путнике средь дюн в безмолвии ночном,
О старом рыбаке, присевшем на пороге,
О тех, кто рубит лес тяжелым топором,
О шуме города, душе, моей тревоге.
9. «Я шел в полях. Гроза уже росла над садом…»
Я шел в полях. Гроза уже росла над садом,
На утро хмурое тяжелый полог лег,
А ворон сумрачный летел со мною рядом,
И ручейки дождя струились вдоль дорог.
Сверкала молния вдали, в полях унылых,
А ветер продолжал сильней и злее выть,
Но были этот вой и тяжкий гром не в силах
Тревог души моей в то утро заглушить.
Добычу Осени — листву — роняли клены
И золото свое растратили дубы.
А ворон так же длил полет свой неуклонный,
Хоть изменить не мог ни в чем моей судьбы.
1932
Сирены пели… В ночь с зеленых островов
Любовь аккордом лир вздыхала неустанно,
Лилась мелодия средь лунного тумана,
И слезы жгли глаза суровых моряков.
Сирены пели… Там, где виделась земля,
Дыхание цветов ложилось на ветрила,
А небо звездное спокойный свет струило,
Томя тоской стоявших у руля.
Сирены пели… Стон, и жалобы, и страсть,
Сплетаясь с гулом волн, летели издалека,
И сердце, словно плод от налитого сока,
От сладкой тяжести готово было пасть.
К цветущим берегам волна корабль несла,
Как очарованный, он шел на ветер свежий,
А там, над золотом пустынных побережий,
Клубились, как туман, влюбленные тела.
Из голубых глубин, в сиянии луны,
Чешуйчатым хвостом взрезая гребень пенный,
Всплывали у кормы зовущие сирены,
И серебро их тел сияло из волны.
И любо было им длить пение свое…
С плеч перламутровых жемчужины стекали,
А груди юные среди морской эмали
Коралловых сосков вздымали острие.
Простерты руки дев, о чем-то молит взор,
Неведомых цветов плывет благоуханье,
И чудится гребцам скользящее касанье
Горячих влажных губ и ласк немой укор.
Так, пленник тайных сил, у бездны на краю,
Сопровождаемый сирен волшебным пеньем
И убаюканный их рук прикосновеньем,
Корабль в туман глубин скользил к небытию.
Благоухала ночь… С цветущих островов
Мелодия любви на арфах замирала,
И море бережно, безмолвно покрывало
Лазурным саваном тонувших моряков.
Сирены пели…
Но… Когда, в какой стране,
В какие времена, стремясь к манящей цели,
Конец свой встретим мы, чтоб нам сирены пели
И шли мы в глубину блаженно, как во сне?..
Бегут короли, потеряв корону,
Лишь крысам Гамлет внушает страх.
Состарилась Порция. Дездемона
Вчера умерла у меня на руках.
Весну печалят дожди, морозы,
На плащ тумана закат похож.
Увидим ли мы, как дышат розы,
Как колосится на солнце рожь?
Прекрасных видений быстротечность —
Вот участь мира, где свет угас,
И отмечает на башне Вечность
То слишком короткий, то долгий час.
В этом последнем безмолвии мира
Что-то бесследно тает во мгле.
Шаги звучат одиноко и сиро…
Устал я от всех и всего на земле,
Затем что вижу исчезновенье
Очарований, жививших стих,
И бесконечное слез теченье
По мертвому лику богов моих.
1932
Простой раскраской теша взгляд,
Вокруг стекла неприхотливо
Написаны крутые сливы,
Инжир и желтый виноград.
И роза, пышностью горда,
В гирлянде, вырезанной грубо
Ножом пастушеским из дуба,
Овал венчает, а когда
Вы поглядитесь в омут зыбкий,
То в смутном облике улыбки,
Живым, внезапным в этот час,
Сквозь легкое отображенье
Всплывет прекрасное виденье:
Звезда двойная ваших глаз.
1932
486. ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ СТЕКЛЯШЕК
В прохладной лавочке на площади Сан-Марко
Среди стеклянных бус я долго выбирал
Колье, чья синева отсвечивает ярко,
И слушал, как звенит нанизанный кристалл.
Нора старьевщика — от потолка до пола —
Живая бахрома качающихся струн,
В чьих ровных бусинах, блестящих и тяжелых,
Живут морской закат и серебро лагун.
Жилище старика чуть посветлей колодца,
Товар его убог и пылью занесен,
Но всё здесь светится, сверкает и смеется,
И длят бахромки бус стеклянный тонкий звон.
Случится ль на ходу задеть движеньем резким
Иль тронуть пальцами сверкающую сеть,
Столкнутся в тесноте хрустальные подвески,
И тихо комната вдруг начинает петь.
Когда-то в майский день, который был так ярок,
Нехитрое колье я выбрал здесь для вас.
Вы не могли забыть меня, и мой подарок,
И этот голубой венецианский час.
Вы не могли забыть… Но паркою сердитой
Соседство наших душ уже расплетено.
Рассыпано колье, все бусины разбиты,
И то, что помню я, забыли вы давно.
По той же площади весь день бродя без цели,
Один я думаю в просветах полутьмы
О темной лавочке, стеклянном ожерелье
И узкой улице, где проходили мы.
1932
О город памятной любви,
Ты венчан страстью, как короной.
Щебечет стриж, восток в крови,
Восходит утро над Вероной.
Есть лестница в гербе твоем —
То «Scala»[41], вписанный умело,
Иль та, которой в тихий дом
Поднялся некогда Ромео?
У всех здесь женщин острый взгляд —
Горячей дерзости примета.
Не им ли семь веков назад
Встречала гнев семьи Джульетта?
И кипарис — другому вслед —
Встает над темными холмами,
Не так ли поднял Капулет
Клинка отточенное пламя?
Верона! Горестный рассказ,
Из страсти сотканный и крови,
Венчал тебя в тот давний час
Бессмертным именем любови.
Он — честь твоя, печать, он взят
Из хроник сердца потаенных,
Когда в трагический закат
Проносится чета влюбленных.
1932