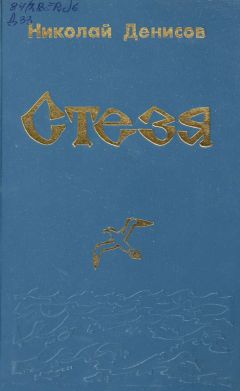Подражание Лорке
В долине теней вечерних,
Где пела беспечно птаха,
Я взял ее двадцать весен,
Она отдала без страха.
Восторженно и поспешно
Слова дошептали губы.
И якорь на медной пряжке
Увлек нас на травы грубо.
Еще, трепеща и ластясь,
Шуршали ее наряды.
И жарко теснились груди,
Нетвердо прося пощады.
Долину сокрыло мраком,
Отбой протрубили в части.
Как флаг пораженья, тело
Белело огнем и страстью.
Я должен был в ноль двенадцать
Быть в роте пред командиром,
Но все позабыл в восторгах –
Уставы и честь мундира.
Прошла морская пехота
На стрельбы ночные звонко.
И снова метались бедра.
Как два – взаперти! – тигренка.
Не скоро освобождение
Мы стихли, как два пожара.
Ее заждались уж дома,
Меня – гауптвахта, нары.
Пока, отгорев, лежала
Она в полутьме покорно,
Раздавленную клубнику
Ножом соскребал я с формы.
1975
Памяти киномеханика М. С. Фадеева
Ни припевок, ни баб у колодца.
Кроме клуба, в домах – ни огня.
Там Фадеева Мишку, сдается,
Осаждает опять ребятня.
Нынче Мишка в себе не уверен,
Но мальчишки-то знают давно:
Он костьми может лечь возле двери,
Но без денег не пустит в кино!
Мишка курит, как водится, возле
Тех дверей. И порядок блюдет.
Он и сам уступил бы, но после
В сельсовете ему попадет.
Мишке не удержаться на месте:
Напирают на дверь пацаны.
Каждый слышал хорошие вести –
Те, что ждали четыре весны.
– Да ведь наши подходят к Берлину,
Гитлер-идол спасется навряд!
Мишка плюнул:
– Идите в картину,
Он за все и расплатится – гад!
1976
Утро. Выстыло жилье.
Изморозь на раме.
За окном хрустит белье,
Машет рукавами.
И ведет с дровами дед
По привычке речи:
Мол, на весь-то белый свет
Не натопишь печи.
Потрудился, полежал.
Ну а как иначе!
Тут беседу поддержал
Самовар горячий.
Дед встает чайку попить,
Посидеть на лавке.
Жалко – нечего чинить.
Хомуты в отставке.
Стужа чистит закрома,
Но приятно глазу:
Сыновья везут корма –
Пять зародов сразу.
Вечер. Замерли в окне
Тыщи вьюжных змеек.
Сколько сразу на стене
Шуб и телогреек.
Стережет уют жилья
Веник на крылечке.
И сидят, как кумовья,
Валенки на печке.
1976
Вот они на бревнышках, чуть свет,
Шелестят, дымя неторопливо:
Чем не сходка сельского актива –
Мужики за чтением газет!
Собрались, обмысливают «жись»:
– Глянь, жулье продернули... отлично!
– За партейных... надо же ... взялись!
И кивают враз дипломатично.
– Ну-ка, глянем, что за рубежом?
Так и есть, нет ладу на планете...
– Не скажи, опять грозят нам эти...
– Не живется, лезут на рожон!
Я молчу, не лезу в разговор.
Но опять – услуга за услугу! –
Раздаю по-братски «Беломор»,
Зажигалка щелкает по кругу.
– Фельетон!
– Оставим про запас... –
И глядят пристрастно и ершисто
На портрет гостившего у нас
Из чужой страны премьер-министра.
Вот они – от плуга, от земли.
Им сейчас на пахоту, на сутки!
Президенты, принцы, короли...
– Сохрани, сойдут на самокрутки.
1976
Заповедник вдвоем стерегли
Отравили Тарзана. За что же?
Кто ответит? Молчит конура...
Мой отец, ни на что не похоже,
Горевал посредине двора.
Самокрутка дымила надсадно,
Боль, наверное, мало глуша.
Коровенку порушили б, ладно,
Все не так бы болела душа.
Не сутулил бы грузные плечи,
Отправляясь за сеном в пургу.
Да и летом бы рук не калечил
На сыром сенокосном лугу.
Отгорит еще сердце не скоро,
Не затопчешь, как спичку, в пыли.
Был он пес – инвалиду опора,
Заповедник вдвоем стерегли...
Кто-то пел за селом безмятежно,
Полыхали герани в окне...
А отец на оглобле тележной
Горько думал о прожитом дне.
1977
Я трижды проклял бы урманы,
Где каркал ворон: «Быть беде!»
Где звезды падали багряно,
За каждым шагом по звезде.
Где утром в сумраке и злобе
Все тот же ворон каркал:
«Жуть!»
А мы лопатами в сугробе
Заре прокладывали путь.
Мороза гулкие раскаты.
И за сугробом вновь сугроб.
Почти пещерные лопаты.
И невод в розвальнях,
Как гроб.
Круша валежник без пощады,
Мы торопились неспроста:
За нами новые бригады
Пробьются в рыбные места.
И снова сонно и громадно,
Катилось солнце кое-как.
И кони снег хватали жадно,
Сухой и грубый, как наждак.
Поземки пасмурное пенье
Цеплялось за душу, знобя.
Я проклял бы свое рожденье,
Когда б работал для себя.
1964–1976
Я засыпал на хвое колкой,
Пока костер недолго чах.
Мороз тяжелою двустволкой
Натужно бухал в кедрачах.
А после дымными хвостами
Нас встретил домик на пути.
В нем пахло сеном, хомутами,
Печеной брюквою – в кути.
Те захолустные, пустые
Места, где вывелся народ,
Обжили – с виду Львы Толстые –
Чалдоны с кипенью бород.
Там на постой пускали редко,
Но, поджидая новостей,
Тесней сдвигали табуретки
И хмуро слушали гостей.
Теперь бы вспомнить всю до точки
Простую быль о давних днях,
И поцелуй хозяйской дочки
В ночных бревенчатых сенях.
И как она шептала жадно,
Как душу, косу теребя:
«Возьми с собою, ненаглядный,
Как буду я любить тебя!»
Но утром как-то торопливо,
Едва забрезжила заря,
Мы запрягли коней ретивых,
За хлеб и соль благодаря.
И бородач, кивнувший еле,
Наверно, слово не найдя,
Присвистнул. Розвальни запели,
Легко полозьями скользя.
Я снова спал на хвое колкой,
Где стужа жалит в сотни жал.
«Возьми с собою!» – долго-долго
Ту встречу ветер остужал.
И каждый день до злого пота
На восемнадцатом году
Ломил я грубую работу
С рыбацким неводом на льду.
Но неотступно – там, у тына,
Как беспощадный приговор,
Ее глаза смотрели в спину:
Знобят и жалят до сих пор.
1976
Парк ишимский. Тополя.
Крик грачей, за гнезда драка,
Да штудируют Золя
Третьекурсницы с литфака.
Да торчит, – пора на слом, –
Пьедестал в аллее жаркой:
Физкультурница с копьем
Стережет устои парка.
Но сидит со мной одна –
Сарафанчик из сатина. –
Я люблю тебя, Ирина!
Дрогнул томик... Тишина.
Буду думать о Золя,
О любви. Присяду ближе.
Как там любится в Париже?
Парк ишимский, тополя...
1976
Звезды падают в синюю мглу,
За деревнею, в ближнем околке.
На вечернем покосном лугу
Не устали кричать перепелки.
Вот маячат большие стога.
Реактивный проходит со свистом.
И на месяце старом рога
Так же ярки в дымке серебристом.
И паромщик поет на корме,
Над водой свесив ноги босые.
И сдается, что двое во тьме
Нежно шепчут слова дорогие.
1976