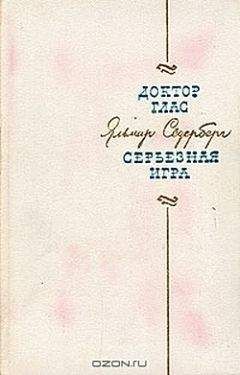— Элин Блюхер прошла, — заметил Хуго Рандель.
— Ты с ней знаком? — встрепенулся Арвид.
— Да. Она близкая подруга сестрицы Дагмар и часто бывает в доме у моего отца.
— Роскошная девица.
— По-твоему, роскошная? Ну, о вкусах не спорят. А ты-то с ней знаком?
— Отнюдь. Только в лицо ее знаю.
— Если хочешь познакомиться, я тебе легко это устрою. У отца на той неделе будет вечер с танцами. Я позабочусь, чтоб тебя пригласили. Идет? Там и познакомишься с Элин Блюхер.
— Благодарю. Отчего бы нет. Но дай-ка мне еще взглянуть на твое произведение.
И он долго, вдумчиво изучал проект.
— Я постараюсь поместить его, — заключил он. — Все, касаемое перемен в физиономии города, всегда интересно. Но есть же, верно, и подписи к этим планам, профилям и прочему?
— Да, но я не прихватил их с собой. Я все доставлю тебе утром. И знаешь — будь так мил, наведи там журналистский лоск.
Рукопожатие — и они расстались. Два дня спустя проект Хуго Ранделя, все планы, профили и подписи появились в «Национальбладет» и вызвали интерес и споры. А еще через неделю Шернблум был в числе гостей у строителя Ранделя — директора Ранделя, как его называли.
И там он познакомился с Элин Блюхер и танцевал с ней и разговаривал — о погоде, о несгораемом шкафе мадам Хумберт, о чем-то еще. И как только он поговорил с ней, чары рассеялись. Она по-прежнему была хороша, очень милая девушка, но нечто совсем другое, чем он предполагал. Нечто… нечто более обыденное. Она лакомилась конфетами и, казалось, целиком поглощена этим занятием.
Но раза три за вечер он ловил устремленный на него взгляд фрекен Дагмар Рандель, словно говоривший: «А ты хороший мальчик. Давай с тобой играть…»
* * *
Шернблум шел к «Дю Норду» обедать. Часы на площади Святого Иакова показывали половину пятого.
Еще не стала зима, дни были серые, зябкие, перепадал мокрый снег и тотчас таял. Арвиду хотелось снега. Он думал о далеком родительском доме, где отец вот уже пять зим кряду один встречает рождество. У Арвида было два брата, оба много старше его. Самый старший, Херман, был никчемный малый, давно уехал в Америку и не давал о себе знать. Второй, Эрик, стал лекарем и служил в больнице в одном городишке на востоке Швеции. А самому Арвиду ни разу за пять лет не удалось вырваться домой на Рождество: Рождество и Новый год в газете самое горячее время, в точности как на почте или на железной дороге…
Письмо к Дагмар Рандель лежало у него в кармане.
На углу Арсенальной он бросил его в почтовый ящик. А обернувшись, увидел фрекен Рандель. Он поклонился. Она остановилась.
— Письмо было к вам, — сказал он. — Всего лишь благодарность за цветы. Я чувствую себя совершенным ничтожеством. Я ведь вам цветов не послал…
— Полно, и к чему их посылать? — возразила она. — Ни в Библии, ни в катехизисе не написано, что в день рожденья следует посылать цветы. Их посылают, если вздумается. Мне захотелось, я и послала. Вам куда?
— Я хотел было пойти к «Дю Норду», пообедать.
— А вы очень проголодались?
— О нет.
Оба немного помолчали.
— У нас обедают не раньше шести, — сказала она потом. — А неприятно идти домой прежде времени. Не хотите ли погулять? Пойдемте к Корабельному острову?
…Они миновали Гранд-отель, где из бара выбивался красноватый сноп света, потом Национальный музей, вышли к Корабельному мосту и перешли мост.
Там, у самой воды, черным скелетом призрака высилось большое голое дерево, и они встали под этим деревом.
Он поцеловал ее.
Простая вежливость того требует, думал он, пока длился поцелуй.
Они отпрянули друг от друга и, затихнув, смотрели на черную быструю воду, в которой горели перевернутые огни фонарей.
Вдруг ему припомнились слова Маркеля: она хочет замуж!
Он погладил ее руку.
— Милая, — шепнул он, — Ты ведь понимаешь, что мне и думать нельзя о женитьбе?
Она опустила глаза и молчала.
— А я ничего такого и в мыслях не имела, — потом ответила она,
Они еще побродили немного по набережной. Она сказала:
— Я тебе покаюсь. Я тогда принесла цветы не без задней мысли.
Он вопросительно глянул на нее. И она пояснила:
— Я бы хотела работать, иметь собственный заработок. Не так уж это приятно за каждой мелочью обращаться к папе. Ты не поможешь мне получить место в газете? Я бы могла писать о модах, о светской жизни и прочем.
Арвид призадумался. О модах пишет такая-то и такая-то, а отчеты о светской жизни делает урожденная графиня, с древнейшей родословной.
— Это трудновато, — сказал он. — Но я попытаюсь.
Под руку они побрели обратно.
— Скажи, — спросил он. — Отчего тебе неприятно возвращаться домой до обеда?
— Оттого что дома нет ничего приятного.
Больше он не задавал вопросов. Прощаясь, она спросила:
— Когда мы увидимся?
Арвид прикинул в уме. Не освободить ли для нее вечер? В Опере сегодня ничего, концертов тоже никаких, он ни с кем не уславливался… И он ответил:
— Я весь вечер буду скучать дома. Может быть, заглянешь ко мне?
— Когда?
— В семь часов. Сможешь?
— Попытаюсь…
…Арвид Шернблум пошёл к «Дю Норду» и там пообедал. Он заказал фрикадельки с бобами.
* * *
Несмотря на его недавно исполнившиеся двадцать восемь лет, у Арвида Шернблума был весьма небогатый опыт любовных похождений. Исключая фру Краватт, — он иногда еще тосковал по ней, — этот опыт ограничивался несколькими беглыми встречами с дочерьми улицы, которых он на другой же день при всем желании мог бы узнать разве что по шляпке или муфте, но никак не в лицо. И еще была одна хорошенькая продавщица, которую он четыре года назад, — как раз когда Лидия Стилле вышла замуж, — снабдил младенцем. То есть уверенности в этом у него не было, ибо существовал еще «жених», но тот скрылся.
Все это, разумеется, повлекло сложные перипетии. Пришлось написать отцу, брату Эрику и Фройтигеру. Отец из своих скудных средств выслал ему двести крон — без нравоученья. Брат Эрик послал ту же сумму, прибавив к ней нравоученье, а Фройтигер дал ему взаймы пятьсот крон. Дело утряслось. Ребенка — мальчика — пристроили в семью честного ремесленника в Сундбюберге; мать, с помощью рекомендательного письма Фройтигера, поступила на новое место, выгоднее прежнего, и была довольна. Шернблум исправно, каждый месяц, платил за ребенка тридцать пять крон.
После этой истории он принял твердое решение и взял его себе за жизненное правило; правило, которому надлежало стать незыблемым и нерушимым, правило, не допускавшее исключений. Правило было такое: ни под каким видом более не соблазнять бедных девушек (возможность соблазна девушки богатой он в расчет не принимал); подчиниться неизбежному; терпеть всю грязь и мерзость скудного холостяцкого обихода, покуда не пробьет час, когда он сумеет построить свой дом и семью и отыщет ту, с кем захочет их построить.
И вот — и вот его решение и жизненное правило впервые подверглись испытанию. И он тотчас сделал «исключение», тотчас поддался соблазну. Надо, однако, сказать, что и случай с Дагмар Рандель был особенный. В этом случае он едва ли мог претендовать на лавры соблазнителя. А коль скоро она сама предложила ему свою пышную, золотистую, юную красу — тут уж он был бы, право же, идиотом, если б отказался…
Разумеется, она сперва задала обязательный вопрос: «Ты меня любишь?»
И, разумеется, он ответил: «Да, я люблю тебя». Ибо иначе ничего бы не вышло… Ах, это «люблю — не люблю»…
Он уже однажды «отдал свое сердце», как говорится. И был твердо убежден, что должно миновать семь лет, никак не меньше, покуда созреет новая любовь. Но жизнь от этого не остановилась — какое! И ведь то, что ему предлагалось теперь, был просто рай в сравненье с тем, с чем ему уже пришлось свыкнуться. И он сказал: «Да, я люблю тебя». При этом он думал — любить тебя я не могу, но могу быть верен всем правилам любовной игры, ее мимике и жестам.
Каждый Божий день она прибегала к нему, чаще всего в семь-восемь часов вечера. Он жил в меблированных комнатах на Гревтурегатан. Точно к десяти он провожал ее домой. Потом он шел к Рюдбергу или «Дю Норду» и выпивал две порции виски с содовой. Или он шел в газету. Как-то вечером он сказал Маркелю:
— Кстати, ты ошибся тогда относительно цветов фрекен Рандель. Она не собирается замуж. Ее интересует место в газете.
— Ну, это сравнительно невинно, — возразил Маркель.
* * *
Арвид Шернблум обыкновенно за весь год обменивался с отцом лишь несколькими коротенькими письмами; зато каждый сочельник он отправлял отцу подробный и обстоятельный отчет. Так было и теперь, в 1902 году. Он писал:
«Дорогой отец, от всей души желаю тебе в новом году благополучья. Жалованья мне не повысят; однако доктор Донкер тешит меня видами на небольшой отпуск нынешним летом. И тогда я надеюсь впервые за шесть лет повидать тебя и дом, где я провел детство.