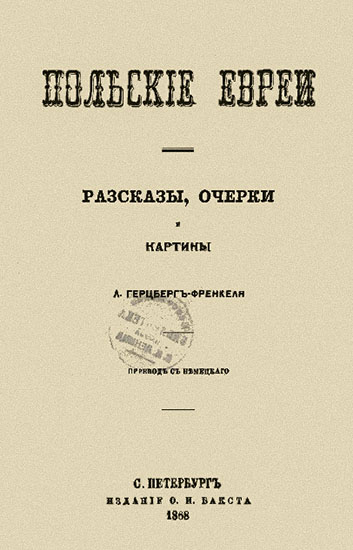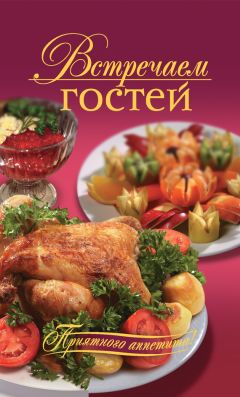Так говори же яснее! Ведь ты, можешь убить человека!
— Ты знаешь Реб-Иицхака, представителя нашего общества?
— Ну?
— Реб-Иицхак приходит сегодня в синагогу; он сильно плакал во время молитвы, у него жена недавно умерла, а дитя лежит при смерти. После молитвы он взошел на Алмемор [3] и сказал: Холера усиливается; наши дома обведены черною чертою, грешники исповедовались, женщины и дети носят талисманы, писанные рукою Мезерического раввина; гробовщик умер [4], — а холера все еще не уменьшается! Раввин советует обвенчать бедного молодого человека с бедною молодою девушкою и чтобы венчание совершилось на кладбище, потому что свадьба на могилах усмиряет гнев Бога и ослабляет силу холеры. Я, прибавил Реб-Иицхак, дам платье, я соберу деньги для молодых, если они согласятся обвенчаться на кладбище и... что же ты думаешь, Хана?
— Что же мне думать, Мендель? Ты думаешь о нашей Мирле?
— Да; знаешь ли ты Иешива-бухера [5] Цалеля?
— Он беден как монастырская крыса, но набожен и честен.
— Реб-Иицхак уж позаботится о детях, и вся община поможет нам, она даст платья и деньги, — это уж не наше дело.
— Конечно, Мирль уж не молода, — делай как знаешь.
Имея согласие жены, и не спрашивая мнения своей дочери, которая в подобном деле не имеет никакого голоса, Мендель бежит к Реб-Иицхаку; скромного Цалеля с торжеством приводят в дом Реб-Иицхака, сговоры совершаются скоро и быстро, — дело спешное, медлить нельзя!
Солнце как огненный шар горит на летнем небе. Жнецы работают на золотистой ниве — без песни и без веселья; даже коса, кажется, сама избегает камней, чтобы звонким ударом не прервать тишины, и беззвучно бросает снопы. И птица на дереве давно уже не пела, и эхо давно уже разучилось повторять веселые песни. Дорога, пролегающая через поля, обыкновенно оживленная, теперь точно вымерла, не видно на ней ни пешехода, ни ездока, ни кибиток, ни лошадей. Только узкая тропинка, ведущая из города на кладбище, несколько оживлена. Мрачные толпы молча проходят с своими черными ношами, — новый гость для матери земли, которая уже много жертв приняла в свое лоно! Не слышно бренчанья денежной кружки, никто не взывает о подаянии, кто может дать, тот теперь охотно дает сам, да и сколько уже просящих замолкло! Смерть идет без шума, без свиты, без взываний. Страх разгоняет толпу и отменяет все обряды.
Вдруг, странный, дикий шум прерывает молчание. Жнецы в испуге оставляют работу, молчаливые гробоносильщики оглядываются, — громадная толпа с страшным шумом подвигается вперед, всякий, чье сердце полно фанатизмом и суеверием, кто хочет затушить в себе страх, кто в жилище смерти хочет видеть признак, жизни, следует за толпою. Музыка гремит, как будто собирается разбудить уснувших на веки. Это свадебная церемония, которая должна совершиться на кладбище, чтоб положить конец опустошительной эпидемии. Невеста великолепно разодета, и жених разряжен, — несчастные, они улыбаются, они думают, что совершают богоугодное дело.
Пестрая толпа входит в черные ворота, открытые как пасть кровожадного чудовища; музыканты невольно опускают смычки на пороге смерти, где кусты и деревья коренятся в костях их предков. Самые шумные гуляки утихают в виду множества свежих холмов, открытых могил, множества трупов и заплаканных лиц, в последний раз сопровождающих сюда дорогих сердцу покойников. Разряженный жених не улыбается больше, разодетая невеста бледна, — действительность ужаснее изображения её!
Ху па поставлена и священный обряд начинается. Кто дерзнет ликовать теперь при соединении двух сердец в виду смерти и страха. Шумная толпа молчит, как могилы вокруг неё; присутствующие теснее скучиваются из боязни и предчувствия; несчастные, — они не знают, что чем теснее масса, чем гуще толпа, тем больше опасность. Дорого бы заплатили многие за то, чтобы лучше не идти за толпою!
Церемония кончилась; мать целует свою дочь, а отец обнимает своего зятя.
Но — Боже! — он шатается — его лице синеет — глаза видимо вваливаются — судороги схватывают все тело — бедный отшельник! Ты стольких провожал на это место, молился здесь за их души при открытых могилах, — свою собственную дочь ты бесстрашно привел сюда и не побоялся провести такой радостный день между могилами — твой час настал — и ты умираешь, как жил, на священном месте, на общественной земле, окруженный человеческой помощью, которая не может помочь, которая не в состоянии освободить тебя — там от несчастья, здесь — от смерти. Прощай же, и, может быть, через много-много лет, твой правнук в такую же страшную годину приведет сюда своего сына для такой же церемонии — ибо суеверие не вымирает!
Позднею ночью пред низеньким деревянным домиком одного маленького местечка на Волыни останавливается небольшой отряд солдат и несколько чиновников. Старший из них постукивает палкой в дверь, выходящую на улицу непосредственно из жилой комнаты. Он стучится очень осторожно, чтоб не разбудить заранее обитателей соседних домов, которых ждет такое же ночное посещение, и терпеливо ждет, пока в домике не замечается огонь и полунагой еврей появляется на пороге. Крик ужаса заглушается на устах еврея плоскою рукою солдата. Дверь опять запирается и ночные посетители находятся в плохо-освещенной комнате.
Эти ночные гости никто иные как сыщики рекрутов; под покровом ночи подкрадываются они к спящим жителям, застигают их врасплох и уводят тех, которые подлежат рекрутской повинности.
На своей маленькой кроватке спит двенадцатилетний мальчик. Два человека приближается к нему; мальчик пробудился и остолбенел от испуга; его стаскивают с постели, осматривают; мальчик одноглазый — он спасен!
С досадой оттолкнув мальчика так, что он упал на землю, сыщики приближаются к постели хозяйки. Страшный крик оглашает воздух; мать, олицетворенное горе, обнимает мальчика, который, с счастливою детскою улыбкой на устах, все еще спит у её груди; она умоляет, — не людей, которые простирают свои суровые руки к спящему ребенку, — а Бога; от Него ждет она защиту и помощи. Но Бог не услышал её: сыщики удаляются и мать лишилась своего дитяти!
Таких-то маленьких детей брали, бывало, в России у еврейского населения, чтобы воспитать из них сильных воинов. Их то хотели приучить к лишениям и тягостям военной службы, — и отчуждать от родителей, от еврейской нации, от еврейской религии. В отдаленных чуждых краях, среди чуждых племен, под железною строгостью, под беспрерывными тяжкими работами, одни изнемогали от тоски по родине, другие от различных других мучений, между тем как остававшиеся в живых ничего не могли