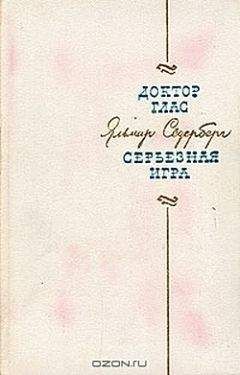И ни разу она даже невзначай не обмолвилась о том, что мыслит себя в будущем его женой.
Напротив.
— Я больше не пойду замуж, — однажды сказала она, когда они сидели рядышком у ее окна, в сумерках. — С меня довольно. О, еще как довольно!
А он понемногу снова приноравливался к странной двойной жизни.
А зима шла своим чередом, и уже снова проглянуло солнце, и снег стаял, и опять настала весна.
* * *
В весенних розовых сумерках брели они бок о бок по Новому кладбищу. Лидия купила у старухи, торговавшей цветами подле ограды, венок из одуванчиков и хотела положить его на могилу Кая Лиднера. Но им не удалось отыскать ее в городе мертвецов, куда гуще заселенном, чем жилые кварталы. И Лидия положила цветы на могилу отца.
Говорили о покойниках, которых оба знавали. Арвид вспомнил Улуфа Левини.
— Он однажды, давно уже, звал меня к себе, а я не смог быть и до сих пор жалею. Никого не было деликатней и проще его в обращении с нашей братией, с газетными писаками. И как он во всем разбирался… Во всем, кроме Унии. Как-то он меня спросил: «Вы могли бы мне растолковать, чего хотят от нас норвежские бараны?» — «О да, — ответил я, — они хотят соблюдения первой статьи их конституции. В первой статье конституции Норвегия провозглашается «свободным и самостоятельным государством». А внешней политикой Норвегии ведает шведский министр, ответственный только перед нашим риксдагом. И это автономия, а никакой не суверенитет, не самостоятельность. Наш министр, я надеюсь, старается изо всех сил. Но что толку? Ведь нам же, шведам, не хочется во внешних делах подчиняться русскому, скажем, министру, хоть бы он справлялся со своими обязанностями не хуже самого архангела Божия?» Все это я ему сказал, и Левини удивился: «Ах вот как?»
— Говорят, — отозвалась Лидия, — будто он покончил с собой, и все из-за какой-то несчастливой любви? Как ты думаешь?
— Я не настолько его знал, — ответил Арвид. — Но мне что-то не верится. Он был поэт. Я немало интересовался свойствами и житьем-бытьем поэтов и пришел к выводу, что едва ли во всей мировой литературе сыщется поэт — подлинный, большой поэт, который бы лишил себя жизни из-за несчастной любви. У них иные против нее средства. Их страданья разрешаются лирическим циклом, романом либо пьесой. Возьми «Вертера». У Гете в юности случилась несчастная любовь, и он написал роман, заключив его самоубийством героя. Роман вызвал целую эпидемию самоубийств, но — как бы не так — не среди поэтов! Не знаю, какие чувства испытывал при этом великий олимпиец, — верно, торжествовал, что сумел так ловко очистить мир от ненужных и лишних, — но сам он преспокойно жил да поживал и стал тайным советником и министром, дожил до глубокой старости и почил во славе. А Улаф Левини умер от несчастного случая. Решись он покончить с собой, не стал бы он выбирать нехитрое питье, лишь в редких случаях действующее как яд. У него была инфлюэнца, он лежал в горячке и в бреду хватил этого питья. И, на горе, именно его организм не переносил его. Другому бы от такой безобидной жидкости ничего не сделалось.
Выцветали последние отблески вечерней зари. Лидия шла рядом с ним и молчала.
— Поэты, — опять заговорил он, — народ особый, советую тебе их остерегаться! Они сильные, они только рядятся в слабых! Поэта ничем не возьмешь! Другого убьешь иным ударом, а поэту только больно, но эта боль ему нипочем, напротив, он из нее делает стихи, он ее обрабатывает, использует! Возьми Стриндберга. Думаешь, мрачное, страшное, больное в его писаниях происходит от пережитого? Ничуть. Ему самому так кажется; и напрасно. Напротив, мрачное, страшное, больное в его натуре — причина всех его переживаний и бед. Но кто бы еще, какой бы еще человек, кроме великого поэта, вышел невредимый из всего того, что досталось Стриндбергу? И не только невредимый — окрепший! Вся наша маета ему только на пользу — служит ему, питает его, лечит, целит! Как-то утром я встретил его, когда шел в газету. Не упомню, чтобы кто другой, кому перевалило за шестьдесят, глядел так свежо и так весело!
Лидия шла рядом с ним, приспустив веки. Погас и уже синел вечер. Она сказала:
— И ты хочешь быть поэтом… Он ответил:
— Я хочу быть человеком, мужчиной. А поэтом я быть не хочу, уволь!
Она шла, задумчиво склонив голову.
— Но если б ты вдруг стал поэтом, скажи, ты мог бы поступить так, как Гете, как Стриндберг, как другие, — ты мог бы превратить в литературу то, что когда-то было для тебя всем, жизнью, счастьем, несчастьем? Мог бы?
— Никогда, — ответил он.
Они строго, твердо посмотрели друг на друга, глаза в глаза.
Потом он прибавил:
— Да я и не думаю, чтобы поэт мог превращать в литературу свою любовь, покуда она еще теплится. Прежде она умирает. А уж потом он ее бальзамирует.
Они молча шли рядышком.
— Ну вот, поэтом ты быть не хочешь, — сказала она. — Так кем же?
— Страшно сказать, — ответил он. — Тебе смешно будет.
— Что ты! Глупости какие. Ну правда, скажи, кем бы ты хотел быть?
— Словами и не выговорить, — сказал он. — Такого и на свете не бывает. Я бы хотел быть «мировой душой». Все знать, все понимать.
Густели, густели сумерки. Один за другим загорались фонари.
* * *
А время шло.
В Константинополе был свергнут Абдул Хамид, разделив судьбу с дьяволом, которого почти в тот же день отменили решением Народного дома в Стокгольме при сочувствии кое-кого из духовных. Старший шурин Арвида — Харальд Рандель — был в их числе. Бога пастор Рандель считал прекрасным и в высшей степени полезным порождением народного духа, фольклорным персонажем, в котором человечество, да и сам он, пастор Рандель, до сих пор могут черпать силу и утешение. Что же до дьявола, то, по понятиям пастора, тот безнадежно устарел. Ничего такого, он, разумеется, не объявлял напрямик своим прихожанам. Он принадлежал к числу тех молодых, свободомыслящих пастырей, что следовали совету профессора Виталия Нурстрёма: «Одной лишь переменой в тоне можно прогнать назойливый призрак, давно обреченный смерти…»
И персидский шах отрекся от престола, и русский царь с царицей нанесли визит Густаву Пятому в Стокгольме, и юный социалист, не имев случая стрелять в них, с досады застрелил шведского генерала… И люди начали летать! Блерио перелетел через Ла-Манш!
И на другой год, в январе, встала над землей страшная, хвостатая комета, — Арвид с Лидией однажды вечером рассматривали ее в Обсерватории, — а еще через несколько месяцев португальцы прогнали юного прекрасного короля и объявили себя республикой, и над Марокко встала черная туча, и великие державы скалили зубы и огрызались, и ни одна не решалась укусить первой!
Арвид Шернблум последние года два-три работал в свободные часы над монографией о Шопене. Осенью 1910 года книга была закончена и вышла пышным изданием. Она впечатлила знатоков и была даже переиздана.
— Как тебе ее надписать? — спросил он Лидию, когда пришел к ней с книжкой.
— Пиши что вздумается, — ответила она. — Только карандашом, чтоб можно стереть, если Эстер возьмет ее почитать.
И он написал:
«Дорогой Лидии от беззащитного Шопена».
Он мог написать это, потому что они были добрые друзья и потому что Лидия не обижалась на шутки (редкое в женщине свойство), и еще потому, что играла она на самом-то деле превосходно.
Вечером того же дня они были в Опере: давали «Кармен» с фру Клауссен. Оба без памяти любили эту вещь.
Сидели не рядом — какое! — ее место было чуть поодаль. И в театре они не разговаривали.
После представленья ему пришлось идти в редакцию. Но сначала он проводил ее до двери. Как столько уже раз прежде, они постояли в тени старой часовни. Осенний вечер обдавал злым ветром. Луна пробиралась меж рваных туч. Облетелые вязы стонали и клонились.
Оба молчали.
— По закону, — сказал он, — бедного Хозе полагалось повесить.
— И его повесили? — спросила она.
— Да, в новелле Мериме его повесили…
Он задумался.
— А ты можешь такое понять? — спросила она. — Когда мужчина убивает женщину только за то, что она его больше не любит.
Он ответил:
— Она ведь погубила ему всю жизнь. По ее милости он стал дезертиром, бандитом. И заметь: в начале последней сцены он еще вовсе не собирается ее убивать; у него этого и в мыслях нет, он пришел не за тем. А она оскорбляет его, дразнит, мучит. Она кричит ему о своей любви к другому. Это как хлыстом по глазам. И уж тут-то он теряет голову. Он же простой парень, он не поэт. Будь он поэт, Кармен бы не пришлось отведать ножа, а ему самому — веревки. У поэтов свои пути, свои средства. — И он заключил, усмехнувшись: — Один молодой сочинитель, весьма, впрочем, даровитый, и молодая актриса были помолвлены, но оба передумали. И, представь, сочинитель воспел прерванную помолвку, ее причины и поводы в стихах, а стихи поместил в «Национальбладет»!