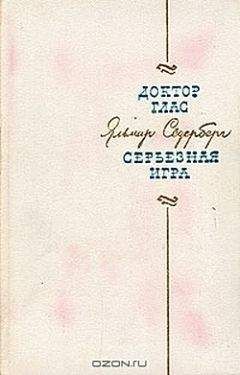Лидия улыбалась.
— Да, — сказала она. — Я уж прочла…
Он довел ее до двери и поцеловал на прощанье.
Несколько минут он еще постоял на кладбище, чтоб посмотреть, как засветится ее окно. И оно засветилось, но тотчас она спустила шторы.
Она наконец-то обзавелась шторами.
«Нынче, когда люди научились летать, — думал он, — даже на пятом этаже и даже подле кладбища без штор не обойтись…»
Впервые после развода Лидия проводила Рождество в доме Рослина.
«Тут все по-прежнему, — писала она Арвиду. — Как в прежние времена, снегири заглядывают ко мне в окно. Как в старые времена, я после обеда играю для Маркуса в темной гостиной. Только дочка подросла, и теперь она совершенная прелесть. Маркус мил, предупредителен, но мы почти не разговариваем. Он очень постарел…»
И зима прошла, и снова настала весна, а в начале лета Арвид позволил себе роскошь съездить с Лидией в Копенгаген и Любек. В копенгагенском Тиволи они катались на карусели. Светлой летней ночью на катере они отправились в Любек. В сумерках они бродили по старым извилистым любекским улочкам, и пили рейнское вино в старых погребках, и любовались накренившимися — вот-вот рухнут и раздавят! — зелеными от патины медными башнями старого собора. И целовались подле оконницы в той самой зале Ратуши, где четыреста почти лет назад юный Густав Эрикссон на своем корявом немецком изъяснялся с любекскими властями и добился от них всего, чего хотел.
Осенью 1911 года Арвид Шернблум снова издал книгу. Называлась она «Государства и народы». Время благоприятствовало ее успеху. Речь в ней шла о положении Швеции среди прочих стран и о ближайших перспективах шведской внешней политики. Иные сужденья были плодом еще карлстадского ученичества, однако же пока не устарели. Отразились в книге и более поздние раздумья. Но именно теперь шведов охватила тревога за будущее. И за несколько недель книга выдержала три изданья.
Вообще весь тот год Арвиду сопутствовала нежданная, вызывающая знобящее чувство страха удача. Он спрашивал себя: «Уж не шулер ли я? Отчего счастливая карта так и идет мне в руки?»
Разом он стал известен. Не громкой известностью, все го лишь в узком кругу, но зато уж в этом кругу все сошлись на том, что у него прекрасное, отточенное перо, и с его мнением считались.
За две недели он состряпал новогоднее ревю, которым увлекся крупнейший в столице режиссер, и ревю поставили на главной стокгольмской сцене в новогодние дни, и успех был таков, что даже критика не могла его не заметить.
Арвид Шернблум был далек от мысли приписывать себе главную заслугу успеха. Она, бесспорно, принадлежала не ему, но Туре Торне, удивительного дарованья молодому актеру и куплетисту, чей неодолимо заразительный юмор и чудесный голос делали свое дело. Старые театралы — свидетели еще восьмидесятых годов — равняли его с Сигге Вулфом или ставили даже выше. Правда, хорошо в представлении было и то, что автор, в отличие от своих соперников, не ездил в погоне за образцами в Берлин. Зато он призанял несколько идей у афинского Эмиля Нурландера[23], Аристофана. Но этого никто не заметил.
Лидия опять проводила Рождество в доме бывшего мужа. Но на этот раз она там не задержалась и уже к Новому году вернулась в Стокгольм с тем, чтоб разделить с Арвидом волненья и радости премьеры. Они сидели на закрытой решеткой авансцене. Дагмар сидела в партере с братьями Хуго и Харальдом и с их женами.
И Харальд Рандель, пастор, повстречавшись с Арвидом несколько дней спустя на площади Святого Иакова, поздравил его с новогодним обозрением, где — в кои-то веки — дело обошлось без непристойностей. Из чего Арвид Шернблум заключил, что непристойности его детища пришлись пастору по вкусу.
К концу января, когда ясно стало, что успех верный и прочный, Арвид Шернблум дал в погребке Оперы ужин для Туре Торне и еще шести актеров и актрис, участников представленья. Туре Торне пел песни Бельмана (Арвид ему аккомпанировал) и был великолепен. Потом он увлек Арвида в сторонку и сказал:
— Осточертела мне моя жизнь! Что за гнусное призванье! Осатанело мне комедиантство! Не хочу больше играть! Я хочу писать для театра, сочинять! И я стану, стану поэтом! Ты еще увидишь. Ты еще увидишь.
Туре Торне было двадцать четыре года. Арвиду Шернблуму недавно минуло тридцать семь. И он ответил:
— Дружище, ты мучишься обычной болезнью юности, которую, впрочем, изобразил в одной книжке Хенрик Рисслер: покуда мы молоды, мы не смеем показать свое подлинное лицо. Мы прячемся за маской. Но ты же певец и актер милостью Божьей; а тебе, видите ли, хочется стать поэтом. Уж не думаешь ли ты всерьез, что судьба поэта намного заманчивей?
* * *
Однажды в конце февраля уже под утро Арвид Шернблум вернулся домой после ночного дежурства в редакции. К удивлению своему, он застал Дагмар на ногах и одетой. Она нервно ходила взад-вперед по гостиной и не ответила на его приветствие.
— Что с тобой? — спросил он. — Ты больна?
— Вот. Тебе письмо, — ответила она и кивнула па стол.
На столе лежало письмо. Он тотчас узнал руку Лидии и вскрыл конверт. Письмо содержало одну лишь фразу: «Завтра мне нельзя. Лидия».
Он стоял с запиской в руке, потерянно, в недоуменье. У них с Лидией было условлено, что, посылая письмо ему домой, она должна рассчитывать время так, чтобы оно не пришло вечером, когда он в газете. И до сих пор это условие соблюдалось.
— Ну! — сказала Дагмар. — Кто такая эта Лидия? И чего это ей завтра нельзя?
— Так ты прочитала!
— Да. Это нетрудно. Я подержала конверт над свечой. И какая бы жена поступила иначе на моем месте!
Она стояла, высоко подняв голову и скрестив руки на груди, в трагической позе. Сказались уроки, которые она когда-то брала у известной актрисы.
Оба долго молчали. Только тиканье часов нарушало тишину.
— Ну вот, — потом сказал он. — Вот ты все и знаешь..
— И ты, верно, вообразил, — сказала она с улыбкой, выражавшей брезгливость и презрение, — ты, верно, вообразил, что я потерплю, чтоб у моего мужа была любовница?
— Нет, поверь мне, Дагмар, я и минуты не думал, что ты станешь это терпеть. Напротив, я и не хочу, чтоб ты терпела, я хочу, чтобы ты развелась со мной, и чем скорее, тем лучше. И я сделаю все, чтобы тебе это облегчить.
Презрительная усмешка сползла с ее губ еще до того, как он кончил.
— Разводиться? — сказала она. — Мне с тобой разводиться. Да о чем ты? Опомнись!..
— Дагмар, милая, — сказал он. — Ты так и не поняла. Я люблю другую…
Она его не слушала.
— Разводиться? — повторяла она. — Да зачем же разводиться? Ты изменил мне. Это подло. Но не так ужасно, чтобы нельзя простить. Мужчины все одинаковы.
— Боюсь, что как раз простить-то и нельзя. Прощают тех, кто кается, кто обещает исправиться. Я же ничего такого не могу тебе обещать.
Она смотрела на него, не понимая. Потом вдруг она бросилась на диван, уткнулась головой в подушки и безутешно разрыдалась. Теперь уж это была не сцена, не игра. Была несчастливая женщина, корчившаяся от муки, и мужчина, страдавший ее мученьем.
Он сел на краешек дивана, стал гладить ее по волосам.
— Не плачь, — говорил он. — Не плачь, Дагмар! Не стою я твоих слез! Я не могу просить у тебя прощенья, я не каюсь. Но все равно, ты прости меня хоть за то, что я сделал тебе больно. Каждый из нас виноват, и страшно виноват перед другим. Ну, давай простим друг другу, раз нам пришло время расстаться.
Она села на подушках:
— О чем ты? Тебе про меня наговорили?
— Нет, я ничего не слышал. Я говорю про «тайную помолвку». Ты ведь прекрасно знала, что жениться на тебе я не хочу. И ты заманила меня в капкан. А так начавшийся брак не сулил счастья. И вот ему конец. Нам остается только простить друг другу все грехи и расстаться друзьями.
Она смотрела на него невидящими глазами.
— Не надо так говорить. Замолчи. Разводиться. Зачем нам разводиться? Отчего нельзя оставить все по-прежнему? И кто она такая, эта твоя Лидия?
— Как же оставить все по-прежнему? Ведь ты же теперь знаешь. А значит, все уже не по-прежнему. Ты ведь сама сказала, что не потерпишь «любовницу». Так как же все может остаться по-прежнему?
Она рыдала, всхлипывала и рыдала.
— О, Господи, — выкрикивала она среди рыданий, — и зачем я держала над огнем это несчастное письмо! Не знала бы я, что в нем, и все бы было, как прежде!
— Ну, не убивайся. Все равно так не могло продолжаться. Всему приходит конец. Оба мы обманывали друг друга. Жить вместе дальше нам нельзя. Однако уж поздно, скоро четыре часа, оба мы намучились, устали. Я пойду, а ты постарайся уснуть. Нам обоим надо выспаться. Завтра тоже будет день, и надо будет вставать. Спокойной ночи!
Он хотел идти к себе. Она его не пустила.