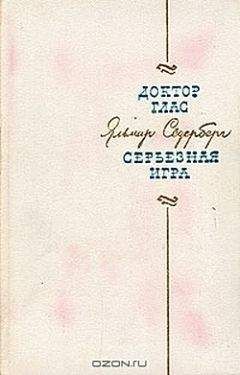— Я уж думал, — прервал Туре свое чтение, — не согласится ли Фредерикссон его сыграть.
— Конечно, согласится, отчего же? — отозвался Хенрик Рисслер.
И Торне читал дальше.
Арвид, сгорбясь, сидел на диване. То и дело удивительно знакомые мелочи, услышанные не впервые реплики выводили его из рассеянья…
«Лаура (мужу). Хочешь знать правду? Муж (веско), К чему она мне? Правда вредна. Лишь иллюзии и заблужденья движут миром…»
А сцена Лауры с юношей, которого она любит: «Я знаю, Артур, — знаю, хоть и слишком поздно, — нам друг без друга нельзя!»
Узнал он к тому же, что у Лауры два брата; один из них служит в суде и воплощает узкую буржуазную мораль; другой — в последнем акте возвращается из Америки и с помощью своего огромного состояния разрешает конфликт…
Торне кончил читать. Помолчали. Потом Хенрик Рисслер сказал:
— Что ж, господин Торне, у вас, я думаю, есть дарованье. Но что сказать о неоконченной пьесе? Это ведь всего только набросок.
— Разумеется, — ответил Торне. — Я вас предупреждал. Но как вам кажется сам конфликт?
— Э, батенька… Конфликт, разрешаемый деньгами… В жизни оно, конечно, бывает… Да только извлечь из этого интерес для сцены… И знаете что? Если позволите еще одно замечанье — ваша фру Лаура, на мой взгляд, немного надуманна, искусственна… В нее не верится. Ну, мне, однако ж, пора. Благодарю за удовольствие. Прощайте!
Рисслер ушел.
Туре Торне мерил пол большими шагами.
— Идиот! — пробормотал он сквозь зубы. — Надуманна! Искусственна! Сам он искусственный! Да если хочешь знать, я ее списал с натуры. Только это строго между нами, — повернулся он к Шернблуму. — Речь идет о чести женщины, ты понимаешь?
— О, разумеется, — сказал Шернблум. — Но я ведь тебя и не спрашиваю, кто она?
Торне добавил, как бы в рассеянности:
— У нас полгода назад была связь. Теперь все в общем-то кончено. Правда, мы с ней думаем поехать в Норвегию этим летом.
Арвид Шернблум прикрыл ладонью глаза, так, словно их резал свет.
— Как же? — сказал он. — Ты же говоришь, у вас все кончено?..
— Ах, видишь ли, — ответил Торне, — надо ведь остерегаться, как бы тебя не окрутили. Хоть немножко успеть пожить. Да к тому же она на пять-шесть лет старше, чем в пьесе… Но что это с тобой? Тебе плохо? Выпьем-ка лучше. Твое здоровье!
— Да, — ответил Шернблум, — мне что-то худо. Но ничего, пройдет.
— Ну, тогда спокойной ночи…
«…Хоть немножко успеть пожить…» — «Надо остерегаться, как бы тебя не окрутили…»
Виденье встало перед ним. Смутное, неясное виденье. Он увидел самого себя. Студенческая фуражка, лодка, ночная река. Давным-давно. Давным-давно…
* * *
Наутро около десяти он позвонил у ее дверей. Она отворила и впустила его.
— Что с тобой? — тотчас спросила она. — Что-то случилось?
Он был небрит, глаза у него запали. Всю ночь он бродил по улицам.
— Да, — сказал он. — Пожалуй, случилось.
Он долго сидел, обхватив ладонями лоб, и молчал.
— Так что же с тобой, Арвид? Отчего ты молчишь?
— Погоди. Сейчас скажу. Я по случайности узнал, что ты задумала летом ехать в Норвегию.
Она вся натянулась, как струна, и от неожиданности в первую минуту ничего не могла ответить.
— От кого ты узнал? — потом спросила она.
— Ты не догадалась? Разве не один-единственный человек мог мне это поведать?
Она молчала потерянно. Наконец она выговорила:
— О, Арвид, не мучай! Расскажи мне все, как было!
Он рассказал. И прибавил:
— Я не утверждаю, будто узнал тебя в его Лауре. Вряд ли найдутся такие двое, в чьих глазах одинаково запечатлелся бы третий. Но я узнал внешность, обрамленье всей твоей судьбы.
Она ходила взад-вперед по комнате, ломая пальцы и свесив голову. Длинные ресницы затеняли взгляд.
— Постой, он так и сказал: «Полгода назад у нас была связь»? Со мной?
— Он не назвал тебя. Он скромный юноша.
— Но я действительно знакома с господином Туре Торне, — сказала она. — Не знаю даже, отчего я тебе никогда об этом не упомянула? Никакой «связи» у нас с ним не было.
Арвид попытался выдавить улыбку.
— В таком случае, — возразил он, — господина Туре Торне ждет поистине блистательное будущее сочинителя, если он сумеет продолжать в том же духе…
Она подошла к нему вплотную и глубоко заглянула ему в глаза.
— Арвид, — сказала она. — Арвид, ты мне не веришь? Он старательно избегал ее взгляда, словно так избавлял ее от необходимости лгать.
— Ну, полно, полно, — пробормотал он, — конечно, я верю.
Не верить, подозревать он был просто не в силах. И без того больно.
— Знаешь, если уж говорить правду, — сказала она, — я с ним несколько раз поцеловалась. Вот и все. И состряпать из этого целую пьесу!
— Ну вот видишь! Я же говорю — его ждет блестящее будущее!
— Ах, — возразила она, пожав плечами. — Какое нам дело до Туре Торне! Его нельзя принимать всерьез; даже сердиться на него нельзя. Но у тебя такое странное, такое измученное лицо. Приляг, отдохни немного. Хочешь, я тебе поиграю?
Он лег и прикрыл глаза. Она сыграла адажио из «Патетической сонаты».
Он рассеянно взял со стола раскрытую книгу. То оказалась «Большая дорога» Стриндберга. И раскрыта она была на том месте, где поэт пишет о затуманенных очах, свидетелях «долгих слез, что пролиты тайком».
Адажио кончилось. И она подошла к нему и положила ему на лоб прохладную ладонь.
— Какой ты горячий, — сказала она.
— Ты читала, когда я пришел? — спросил он.
— Да. Я в газете прочла, что он при смерти. И достала книгу с полки. Я так люблю это место…
— О, я тоже. Конечно, нельзя сказать, чтобы сам Стриндберг проливал слезы тайком. Напротив, всю свою жизнь он только и делал, что рыдал и стонал на удивленье громко и публично. А это, должно быть, облегчает душу. Очень облегчает.
Он поднялся.
— Ну вот, — сказал он. — А теперь я, верно, должен с тобой проститься.
— Арвид, — заговорила она. — Ты ведь и сам понял, что так, как прежде, у нас продолжаться не может. Но если ты меня еще любишь, если не хочешь меня потерять, тогда… Тогда тебе придется пройти все тяготы развода, вторичного вступления в брак и прочее. А так, как прежде, теперь уже нельзя…
Он не знал, что сказать. Ни разу за все эти годы она не заговаривала о браке, и вот…
Он сказал:
— Лидия, я скоро уеду, далеко уеду. И вчера, еще вчера я решился просить тебя ехать со мною вместе, иначе я себе и не мыслил. Но с тех пор для меня мир перевернулся. И неужто же тебе кажется, что сейчас нам время говорить о женитьбе? После вчерашнего, после того, что я пережил?
Она избегала его взгляда. Он долго молчал.
— Да, — сказала она наконец будто сама с собой. — Да. Теперь мне не для чего себя беречь…
Как сквозь сон, ему вспомнилось, что она эти слова уже говорила — давно, много лет назад…
— Когда ты едешь? — спросила она.
— Через неделю. Или еще чуть позже.
— Что ж… тогда прощай…
— Прощай.
* * *
И прошло несколько дней, и на столе перед ним лежало письмо от Лидии.
«Арвид. Ты забудь все, что я тогда наговорила. Про развод, про женитьбу. Я так разволновалась из-за того, что ты мне рассказал, я сама не помнила, что говорю.
Оставайся со своей женой. Обо мне не пекись. Я свой выбор сделала.
Я его люблю. Я никогда никого так не любила!
Лидия».
Он скомкал письмо, прошел в конец коридора и выбросил бумажку в уборную.
Из открытого окна наискось через улицу неслись звуки граммофона. Играли «Господи, ближе к тебе».
* * *
Наконец-то Арвид Шернблум обрел недолгий покой в своем доме… Он написал шурину, настоятелю Ранделю, — Харальд Рандель уже два года как получил приход в нескольких милях к северу от Стокгольма, — и попросил его пригласить на несколько дней Дагмар с девочками. Пастор с готовностью согласился, и Арвиду удалось уговорить жену поехать. Передышку он использовал для улаживания необходимых предотъездных дел. Надо было отказаться от квартиры. Надо было договориться с Донкером, чтоб тот послал его корреспондентом от газеты. Надо было условиться со знакомым адвокатом, чтоб тот взял на себя ведение развода, если удастся добиться от Дагмар согласия. Жить с ней он больше не будет; после разрыва с Лидией самая мысль об этом стала ему несносна. И надо было получить заграничный паспорт. И надо было уложить вещи в дорогу. Кроме кое-какого белья и одежды, он захватил с собой несколько книг.
Блеклая полоса вечернего солнца падала на книжную полку. Одну за другой он перебирал книги, листал. Добрые старые знакомцы, милые друзья… О, Господи, старина Эрнст Фридрих Рихтер… «Учение о гармонии», издание двадцатое, Лейпциг, 1894… И Бельман, и Лиднер, и Тегнер, и Стагнелиус, и Стриндберг, Стриндберг… И последний томик стихов Улафа Левини, как мило, что он ему его подарил… Уж год, как он умер… И Хенрик Рисслер: «Юные годы». Он полистал книгу и наткнулся на место в самом конце: «…И если вдруг моя жизнь осветится весенним лучом, я погибну от непривычки к теплу»[24]. Ну нет, приятель, ничего с тобой, однако же, не случилось. Не такой уж ты хилый. Он выбрал Бельмана и Гейне и старый французский перевод Плутарха. «Книгу песен» он положил в дорожную сумку. Пусть будет под рукой. Давно он ее не читал. Библию он взял с собою тоже.