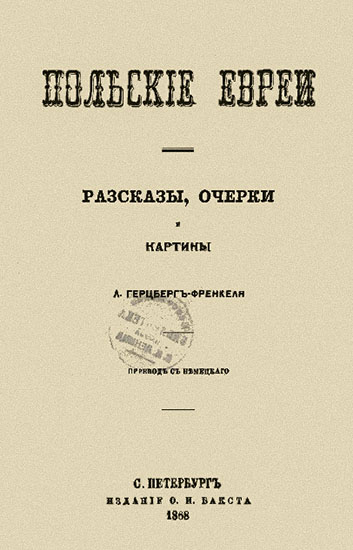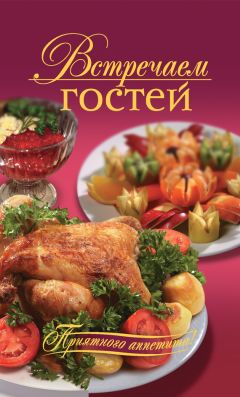их слабости то, что вы требуете теперь от их патриотизма. К чему их привлекать в администрацию и в армию? Если мы падем в борьбе, тогда они сделаются участниками нашего мученичества, нашего бессмертия. Если мы победим, тогда они захотят участвовать в нашей славе, нашей независимости и в наших правах, — а я ни в одном из этих случаев не желал бы иметь своими компаньонами жидов.
Гедвига молчит. Слушатели утвердительно кивают головою. Только барон Маринский, демократ чистой крови, несмотря на свое баронство, человек, всосавший в себя молоко новой цивилизации, восстает против воззрений своего сообщника. Крутой и неразборчивый в выражениях, он произнес, обращаясь к графу:
— Вы оскверняете наше столетие, граф, и если все поляки, участвующие в возрождении Польши, думают, как вы и разделяют ваши предрассудки, то Польша никогда не будет свободна. Наш народ до сих пор не имеет среднего сословия; сельское народонаселение враждебно нам и во всяком случае недоверчиво относится ко всем начинаниям дворян, в которых оно видит своих тиранов. Евреи, во множестве населяющие Польшу, могли бы образовать просвещенный, полезный и богатый средний класс, если бы мы соединились с ними, и могли бы служить связью между дворянином и крестьянином. Если бы мы приобрели дружбу евреев, наши силы на столько увеличились бы, на сколько они от устранения еврейского элемента уменьшились; мы удовлетворили настоятельным требованиям века. Время старых предрассудков и исключительного аристократизма прошло. Сословность уступает место — человечности. В области дипломатии и финансов, также как и на поле сражения, еврей может быть столько же полезен, как и потомок рыцаря, участвовавшего в крестовых походах, и было бы грешно отвергнуть содействие такой силы нашему национальному делу. Если совершена измена. то она без всякого сомнения заслуживает наказания, но наказать целое общество за преступление одного частного лица — тоже нельзя. И наша нация произвела изменников, однако же никто не станет отрицать её храбрости и готовности пожертвовать всем для блага отечества. Тысячи исполняют свой долг и погибают, одиночные личности бросают свое знамя и убегают, но мы не должны ведь распустить свою армию, потому только, что в ней нашлось несколько дезертиров.
— Пока я имею влияние, — прервал его граф, — я не допущу, чтобы евреи участвовали в созидании истории польского народа и управлении страной. В этом будьте уверены, господин барон.
— Во время моих путешествий по Польше, по Краковской области и по Галиции, я имел случай изучить этот народ, и уважаю его. Судить обо всем народе по фактору или по коробейнику, которого в нехорошем расположении духа сбрасываете с лестницы и который преспокойно опять возвращается, потому что нужда гонит его к вам, а голод детей и жены заставляет переносить равнодушно ваши пинки и ваши грубости — еще не значит знать этот народ. Взгляните на евреев в их домашней жизни, в их молитвенных домах, в их обществах — и вы найдете народ единый, хотя раздробленный, и сильный через это единство; вы найдете между ними чистоту нравов, безустанное трудолюбие, привязанность к прошедшему, и такую непоколебимую надежду, что Бог не оставит их в будущем, которой мы не можем не удивляться. Между тем как наш крестьянин проводит свои воскресные и праздничные дни в кабаке, где он пропивает труд всей недели — еврей проводит свои дни отдыха и поста в кругу своего семейства, в вычищенной комнате, у накрытого чистою белою скатертью стола, в учении, рассказах и молитвах, разделяя свой хлеб с женою и детьми и уделяя из тяжело доставшегося ему сбережения часть на общественные нужды своей общины и на обучение детей своих.
— Любезный барон, — сказал граф Кроновский с едва скрытой злобой, — мы собрались сюда не для того, чтобы рассуждать об эмансипации евреев, но чтобы судить изменника: угодно ли вам, господа, приступить к отобранию голосов?
Голоса собраны.
Барон Маринский, поддерживаемый Гедвигою, дает свой голос против предложенной смертной казни; но большинство на стороне графа Кроновского.
Карл Гольдгейм приговорен к смертной казни!
Возвратившись домой, старый Гольдгейм тотчас же тихо, никем не замеченный, прокрался в свою молельню. Быстрым взглядом окинул он комнату и скоро заметил под тщательно закрытым столом орудия, которыми дети его содействовали восстанию. Дрожащею от внутреннего волнения рукою и не отирая выступивших на глазах его слез, поджигает он священный стол; пламя разгорается и жадно охватывает все окружающие предметы.
Еще осторожнее прежнего прокрадывается старик через двор в свое жилище, где он — преступник на старости лет — тяжело опускается в кресло и некоторое время почти без ума погружается в мрачные думы. «Пожар! Пожар!» — кричат внизу; старик слышит этот крик и пораженный в самое сердце, быстро вскакивает: это публичное обнародование его преступления, крик ужаса о его черном деле.
Внизу собирается толпа; сотни рук работают, чтоб удержать разъяренную стихию; но она быстро уничтожает большой флигель и, вместе с ним, доказательства государственного преступления.
Еще не потух пожар, а полиция в лице Курилова, сопровождаемого отрядом нижних полицейских чинов и жандармов, является в дом Гольдгейма, чтобы отыскать тайный типографский станок, о существовании которого полиция была извещена. Медлить дольше Курилов не мог, если не желал подвергнуться важным подозрениям.
Тщательно шарит полиция по всем углам, все тайники открываются перед нею, половые доски вырываются, повсюду проникает она: в погреба, под крышу, во все отделения дома — напрасно! Только некоторые книги, брошюры и фотографические карточки, неодобренные цензурой, попадаются в руки полиции.
Карл с сестрой — безмолвные от изумления и испуга, вызванного происшествиями, так быстро совершившимися на их глазах, — не зная ни причины призыва отца в замок, ни причины внезапного пожара, и окончательно ошеломленные прибытием полиции — стоят посреди кучи домашней утвари, вынесенной служителями на двор при самом начале пожара. Эрмина в особенности совершенно падает под бременем всех этих происшествий. Нежное дитя, она не способна носить панцирь, в который ее одели и под тяжестью которого она не может устоять.
Старый Гольдгейм стоит у окна, по-видимому, занятый видом пожара; но, в сущности, он ожидает прибытия полицейского чиновника, который находится в другом этаже.
Наконец приходит Курилов. Он был один. Его люди уже ушли и ждут у ворот своего начальника.
— Одно слово, мой друг, — сказал старик, схватив обе руки Курилова и сжимая их с искреннею благодарностью, — Вы оказали мне сегодня услугу, которую во всю жизнь нельзя забыть и которую невозможно вознаградить. Мы стояли на краю погибели; вы нас спасли. Опасность минула,