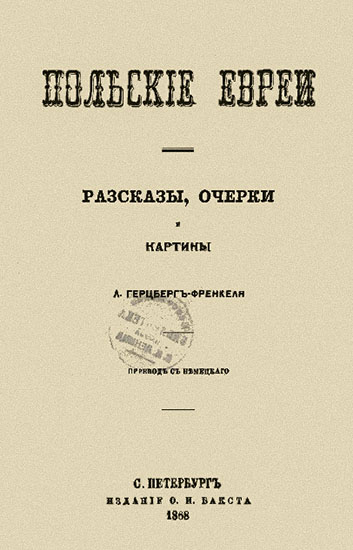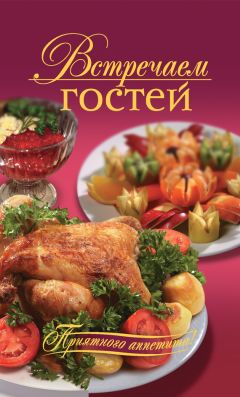не имели возможности заключать людей в тюрьмы или изгонять их, поэтому они их убивали или вешали.
Бессилие привело к кровавому террору, и, таким образом, революция, которой сначала сочувствовали почти все, сделалась предметом ненависти и ужаса для всех тех, которые ничем не хотели оправдывать совершенных смертоубийств и для которых цель не оправдывает средств. Люди, восставшие против тирании, сами провинились в ней еще в большей степени и уничтожали всякого, кто не хотел подчиниться их власти.
— Идите, дитя мое, — сказал граф, который сильно желал положить конец этой сцене, — идите, и будьте уверены, что мы сделаем для вашего брата все, что должны сделать.
— А должны мы, — продолжал граф, когда двери закрылись за удалившеюся Эрминою, — оставить его там, где он теперь находится. Согласен, что мы, может быть, поступили слишком опрометчиво, осудив его на смертную казнь, хотя все это дело чрезвычайно неясно, и наконец, кто же во время войны обращает внимание на жизнь отдельной личности? Теперь мы должны постараться, при помощи находящихся в наших руках средств, скорее продолжить арест Карла Гельдгейма возможно долее, чем освободить его. Это была чрезвычайная ошибка — предать в руки еврея тайну, за которую русское правительство охотно дало бы миллион, посвятить в нашу тайну человека, который не имеет ни патриотизма, ни отечества, который рано или поздно потребовал бы вознаграждения за оказанные им услуги. — Оставим его в руках русской полиции, и будем довольны тем, что это случилось прежде, чем успели совершиться измена или обман, которые необходимо совершились бы рано или поздно.
— А если этот человек теперь нам изменит для того, чтобы получить свободу, которой мы не хотим доставить ему? — спросил Маринский.
— Если он до сих пор не изменил нам, то до завтра не изменит, а завтра наши тайные газеты протрубят апофеоз еврейского мученика, томящегося в заключении, и хотя этим скомпрометируют Карла Гольдгейма в глазах русского правительства, но за то он по своей глупости, если мы доставим ему несколько листков — почувствует в себе новые силы и устоит некоторое время против всяких искушений. Гедвига пошлет ему локон, другая дама венок, таким образом он останется нам верен, и притом не станет больше мешаться в наши дела. Этого требует осторожность. Оно, может быть, придется не по вкусу нашему республиканцу, господину барону, может быть это и не гуманно и не справедливо, но во всяком случае — благоразумно.
— Совершенно верно, — подтвердили другие.
— А Гедвига? — спросил барон, — что думает Гедвига?
— Я с своей стороны, — отвечала Гедвига, — была бы очень рада освободиться от глупой роли, которую я играю — прикидываться влюбленной, слышать различные пошлости, которые опротивели мне. Я думаю, что устранение Гольдгейма не будет теперь большой потерей для нашего дела. Я только противилась смертному приговору, но совершенно согласна с его исключением, и думаю — прибавила она со смехом, — что не следует принимать какие-либо незаконные меры для освобождения Карла Гольдгейма, чтобы не оказаться неблагодарным в отношении к русской полиции, которая оказала нам такую услугу, освободив нас от лишней обузы.
— Совершенно верно, — воскликнул Кроновский, с торжествующим видом смотря на Маринского, который, подпирая голову рукою, сидел с мрачным лицом: он отказался от борьбы. — Совершенно верно, повторяет Кроновский, — к чему повторять ошибку, которую мы уже раз сделали, и снова принять в нашу среду лицо, которое нам всем равно ненавистно, и от которого мы отделались таким приличным образом? К чему принимать своими сотрудниками в борьбе за освобождение самых худших евреев — евреев гордых, так называемых образованных? Прибегать к помощи такого вспомогательного войска — не значит ли это дать польской нации свидетельство о её собственной бедности? И можем ли мы принять на себя обязательства за вымышленные услуги, — обязательства, которых мы никогда не исполним; кто из нас допустит, чтобы еврей, когда мы сделаемся властелинами этой страны, принимал участие в управлении, пользовался всеми правами и стал на одинаковую с нами общественную ступень?
— Никто! — кричат все единогласно.
— Еврей создан для того, чтоб слушаться, — продолжал граф, — а не для власти. Пусть он себе торгует, своим тряпьем и справляет шабат сколько ему угодно, пусть он обманывает в своей лавке, сколько ему хочется, но нельзя допустить, чтобы он занимал место между людьми, создающими историю. И так решено: Гольдгейм остается там, где он находится, ни одно слово не должно быть произнесено, ни одна рука не должна подниматься в пользу его освобождения.
У дверей стояла Эрмина и прислушивалась к этому совещанию.
Когда она вышла из залы, то почувствовала, что силы ее оставляют; ноги её подкашивались, и в изнеможении она опустилась на стул, чтоб подождать выхода Гедвиги, и повторить ей свою просьбу о помощи брату. В это время сильный голос Кроновского проник до её слуха, и она жадно стала прислушиваться, узнав, что дело идет о её брате... Когда Кроновский окончил, она, едва заглушив крик, невольно вырвавшийся из груди её, бросилась вон из дома. Досада, гнев и отчаяние овладели ею. расстроенная и взволнованная, явилась она к брату, которого один вид её уже испугал.
Дрожащим голосом и с сверкающими глазами рассказала она ему, что она пережила и перестрадала, за это короткое время; она рассказала ему о черной неблагодарности, о глубоком презрении тех, делу которых он служил с опасностью для собственной жизни, о подлой неверности женщины, ради которой он намеревался жертвовать своим настоящим и будущим счастьем, о беспомощности, в которой эти люди оставили его, об ужасных разочарованиях во всех её собственных надеждах, — и с настойчивостью сангвинического характера требовала от него, чтобы он отомстил за себя и за свой народ, и изменил делу, которое теперь стало чуждо ему.
Карл, точно гром разразился над его головой, стоял в совершенном забытьи; глаза его были неподвижны, щеки побледнели, руки опустились — он представлял собой бездушную статую изнеможения и беспомощности. Все его надежды, все его чувства и помыслы, все планы, которые он составил себе, все замки, которые он строил, храм, который он воздвиг в своем сердце своему божеству, все мечты его о свободе, равенстве и братстве — все, все мгновенно разлетелось в прах...
И он в тюрьме!
За все, что он сделал, за все, что ему сделали — в тюрьме!
Эрмина в испуге молчит, видя страшные страдания, которые она причинила брату. Она обнимает