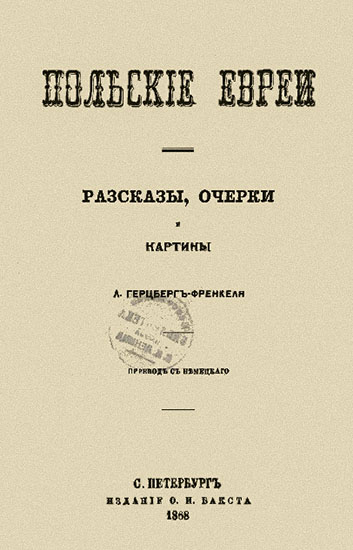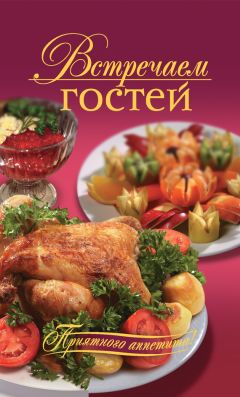его, усаживает на скамейку, отогревает его своими поцелуями и обливает его лице слезами.
— Бог нам поможет, Карл, милый Карл! Что делать? Люди обманули нас, будем надеяться на Бога. Но ты теперь свободен от всяких обязательств; ты можешь теперь купить свою свободу их тайной, поступи с ними, как они поступили с тобой, и отомсти своим врагам, чтобы выйти из этой темницы, в которую ты попал, как жертва твоей любви к отечеству.
— Нет, — говорит Карл, приходя в себя, — я никогда не сделаюсь изменником, хотя они и поступили со мною так подло. Я сделал все, что мог сделать честный человек, я хотел содействовать освобождению моей родины, — я надеялся участвовать в победе, также как участвовал в опасностях, я надеялся на человеческие права, на равенство... Я любил потому, что мне показали прекрасное сердце в прекрасной оболочке. Теперь я кругом обманут, меня лишили отечества, изгнали из рая, с светлой высоты моего счастья меня сбросили в мрак темницы, — что ж, я останусь здесь — но изменником я не сделаюсь! Не хочу замарать ни себя, ни моего народа этим пятном; не хочу, чтобы граф Кроновский оказался прав. Да и чем виноват бедный польский народ, когда его предводители погрешают против гуманности и цивилизации? Справедливо ли изменить делу целой нации только потому, что какой-нибудь граф Кроновский с товарищами оказываются подлецами? Не найдет ли вечная ненависть к евреям свое оправдание, не возмутится ли весь образованный мир, когда узнает, что еврей продал России ключ для открытия этого, с трудом и искусством организованного восстания, чтобы таким постыдным образом получить свободу?
Эрмина молчит; она понимает, что брат прав, что она уговаривает его совершить дурное дело. Но как освободить его из темницы?
Она уходит домой. Молодая цветущая девушка, она является теперь перед отцом, бледная и худая, с красными от слез глазами и расстроенным лицом.
— Ты больна, дитя мое? — спрашивает старик в испуге.
— Батюшка, — говорит она, заливаясь слезами и не умея больше сохранить пред ним тайну, — батюшка, нас поразило двойное несчастье. Карл арестован, а те, за вину которых он страдает, отвернулись от него!
— Успокойся, милое дитя мое, и говори яснее: кто отвернулся от Карла?
— Они, те, которым он посвятил жизнь свою. Карл был деятельный, преданный до самопожертвования, член революционного общества. С безустанным рвением, с деятельностью, не знавшею покоя, с готовностью жертвовать всем, даже жизнью, служил он делу, к которому он добровольно присоединился и которое ввергло его в гибель. Революционное правительство может многое сделать — я это знаю, влияние его чувствуется в самых высших правительственных инстанциях, я обратилась к нему с просьбою о помощи для Карла.
— И оно?..
— Отвернулось от него! В Карле отдают на произвол судьбы еврея.
— Я знал это прежде, и говорил, что так будет. Знает ли Карл об этом?
— Я была у него, и передала ему слово в слово все, что слышала. Он был уничтожен под тяжестью этой правды; он слушал мой рассказ, как слушают смертный приговор; он раскаивался в своем участии и сожалеет о польской нации, которая имеет таких предводителей. Но выдать их тайну за свою свободу, он не хочет.
— В этом он совершенно прав, — это прекрасно с его стороны. Он не хочет изменить делу из-за личностей. Во всяком случае, это событие должно произвести на него целительное действие и научить его, что обещания — пустые слова. Я предупреждал его; я ему говорил, что им нужна только наша способность оказывать услуги, что теперь они взывают к нашему патриотизму, возбуждают в нас надежды и честолюбие, дают нам векселя на будущее время, — но когда наступит день платежа — тогда они отвернутся от нас и будут смеяться над нами. Карл не обратил внимания на мои слова, он предался всею душой этим людям, которые теперь отказываются от него, и только теперь глаза его открылись. Хорошо, я подумаю о том, как бы его поскорее освободить; он будет беднее одной надеждой, но зато богаче одним опытом.
Спустя несколько дней, Карл был выпущен на свободу. Курилов не преминул, при этом случае, прочесть ему наставление.
Он вступил в дом отца своего старше десятью годами, чем оставил его. Его молодость успела в это время увянуть, его веселость и смелая самоуверенность уступили место серьезной обдуманности и благоразумию, взгляд его сделался спокойнее, походка тише. Великие события в одну ночь совершают те важные изменения, для совершения которых в обыкновенное время нужно много лет. Как отличны его настоящие мысли и чувства от тех, которые наполняли все его существо несколько дней тому назад, когда он считал себя членом могущественного революционного правительства, которое, казалось, хотело вытеснить Россию из её пределов! Теперь он человек — обманутый в своих лучших надеждах, — все светлые стороны его жизни помрачились.
Старик принял его с любовью и лаской, как будто он возвратился с кладбища, где похоронил дорогое сердцу лицо, и теперь нуждается в утешении и нежном обхождении. Ни одного слова упрека или увещания, ни одной нравственной сентенции.
— Милый Карл, — сказал старик после длинного разговора о незначительных предметах, — обстоятельства становятся все более сомнительны; я бы хотел на всякий случай, перевести несколько денег в Пруссию; не поедешь ли ты в Берлин?
Карл понял нежное намерение отца и с выражением благодарности, ответил:
— Я поеду, когда и куда тебе угодно будет.
— Видишь ли, милое дитя, — продолжал старик, ты еще мало видел людей. Есть лучшие страны, где людские отношения более человечны, чем у нас. Будь я помоложе, я бы стал путешествовать, чтобы собственными глазами увидеть пеструю жизнь различных народов и сыскать себе родину там, где мне понравилось бы. Нам, которым отказывают в клочке земли, должно быть все равно, где стоит колыбель детей наших и где когда-нибудь будет наша могила. Нам, которым отказано во всяком участии в государственной и общественной жизни, все равно — перед каким правительством приходится нам гнуть свою спину. Если мы найдем страну, которая примет нас в свои материнские объятия, народ, который протянет нам братскую руку, — то эта страна должна быть для нас второй Палестиной, и мы должны поселиться в этой святой земле, хотя бы в качестве поденщиков, в поте лица достающих свой насущный хлеб, вместо того, чтобы жить в роскоши там, где нас исключают из общественного союза, где все