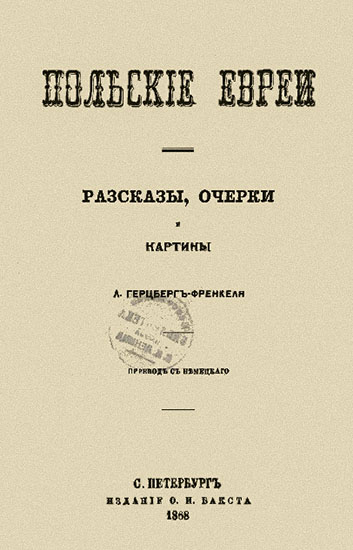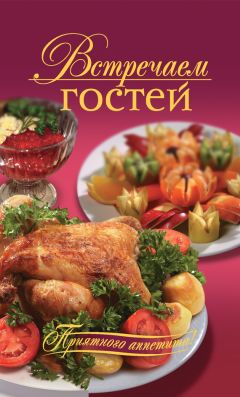вещей, изменится и их положение, и что поляки, при своем великодушии, которым они гордятся, вознаградят их за участие в этом деле улучшением их социального положения.
— Если ваши единоверцы так рассчитывают, то они плохие счетчики, — сказал наместник с улыбкой, опускаясь на диван и усаживаясь как человек, намеревающийся вступить в длинный разговор. Или Бог вас поразил слепотой, чтобы погубить вас. Вы старик, и, вероятно, помните еще обстоятельства 1831 года. Вы, по всей вероятности, еще не забыли, как обошлись тогда с вами эти люди, для которых вы теперь жертвуете своим счастьем, не забыли тех преследований, которым вы подвергались в местах, где на короткое время свергнута была власть русского правительства, той быстроты, с которою вас, по одному подозрению разъяренного народа, вешали на фонарях, и наконец порешили, по восстановлении царства, изгнать всех евреев из пределов Польши.
— Ничуть не разделяя мнения большей части моих единоверцев, — продолжал Гольдгейм, с осторожностью подбирая слова и выражения, — я, согласно приказанию вашего сиятельства говорит откровенно, осмелюсь доложить, что те евреи, которые сочувствуют полякам, действуют так в надежде, что они не как простые рабочие тащат камни для чужого дома. Жертвуя всем своим счастьем, кровью и достоянием, они увлекаются обещанием, данным одним польским князем: «que ceux qui perissent de la meine mort doivent vivre de la meme vie» [24].
— Если евреи на этом основывают свои надежды, то мне приходится сожалеть их. Но допустим, — прибавил наместник с легкою насмешкой, — что обещания поляков искренни; допустим, что они действительно готовы предоставить вам право жить повсеместно и, вместо пинков, вам дадут братский поцелуй, — надеетесь ли вы, что наступит когда-нибудь день этого платежа, что поляки когда-нибудь восторжествуют над своим могущественным победителем, и в стране, над которой парит русский орел, восстановят свое знамя?
Наместник встал. Луч гнева сверкнул в его глазах.
— Железною рукою я примусь за них; я сломаю их силы и разрушу все их замыслы, я уничтожу всякого, кто когда-нибудь брался за оружие, пел песни, читал молитвы или питал мысль о независимости. Там, где природа слилась в глыбу льда, там я отведу место этим пламенным мечтателям.
— Позвольте, ваше сиятельство, заметить, — произнес старик, испуганный гневом наместника, — что я имел честь говорить не о своих убеждениях. Так думают только молодые, неопытные люди. Нет сомнения, что их иллюзии рассеются.
— Знаю, но это будет только при первом выстреле, который раздастся в Варшаве, а тогда уже позднее раскаяние не поможет, тогда судья уже будет говорить и палач работать. Чтобы избежать этого кровопролития, чтобы оставить в тюрьмах место для более опасных заговорщиков, — я и призвал вас. Теперь вы знаете, как вы должны действовать. Вы умны, опытны и влиятельны, — действуйте как понимаете.
И с этими словами, наместник отпустил старика, который, не поворачиваясь к нему спиной, вышел из кабинета, через приемную, где его опять встретили многочисленные ядовитые взгляды присутствовавших, которые были уверены в том, что еврей подал какой-нибудь важный донос.
В прихожей наместника, полицейский чиновник, украшенный множеством орденов, ждал выхода Гольдгейма. Увидев его, он быстро подошел к нему и, схватив его за руку, увлек с собою в темный угол залы.
— Вы не узнаете меня? — спросил он оторопевшего старика.
— Нет сударь, — отвечал Гольдгейм, всматриваясь пристально в лицо говорившего.
— Мне сейчас сказали, что вы у наместника. Ведь ваша фамилия Гольдгейм, вы прежде жили в Вильне, имеете сына и дочь, и теперь живете в Н...ской улице? Так ли?
— Да.
— Так следуйте за мной.
Вышедши на улицу, офицер продолжал:
— Вы знали когда-то казначея, который, вследствие легкомысленной жизни, растратил большую сумму и, накануне ревизии кассы, пришел к вам в отчаянии просить вас о помощи, которую вы ему великодушно и доставили?
— Да, это был господин Курилов.
— Этот Курилов стоит теперь перед вами. Я считаю себя счастливым, что могу теперь отплатить вам за благодеяние, которое вы мне тогда оказали. Я сделал открытие, которое предает в мои руки судьбу всей вашей семьи. Пятнадцать лет тому назад, вы спасли мне жизнь и честь, — теперь я отплачу вам тою же монетой.
— Я вас решительно не понимаю, — сказал оторопевший и удивленный Гольдгейм.
— Не притворяйтесь, мой друг, вы видите, что я вам зла не желаю. Я бы мог передать это открытие по принадлежности, и верно получил бы награду или повышение, а вы бы погибли. Из того, что я не поступил так, вы можете ясно видеть, что я вам добра желаю.
— Клянусь Богом — я ни слова не понимаю из всего того, что вы мне говорите.
— Так вы не знаете, что в молельне вашего дома стоит тайный типографский станок, за которым работают ваш сын и ваша дочь, в сообществе с одним бывшим наборщиком?
Гольдгейму показалось, что земля раскрывается под его ногами.
— В моем доме? — вскричал он. — Мой сын? Моя дочь?
— Тише, ради Бога! Идите скорее домой. Огонь может все уничтожить. Только поскорее. Через час к вам явится полиция.
И с этими словами офицер удалился, а Гольдгейм бросился, с величайшей поспешностью в свою карету...
Из дома отца Карл поспешил к Гедвиге, чтобы известить ее обо всем случившемся и укрепиться её любовью и мужеством. Но он нашел двери запертыми.
Обманутый в своих ожиданиях и недовольный собой, Карл направился обратно домой. Голова его горела, пульс сильно стучал. Какие-то темные предчувствия терзали его душу. На полдороге он снова вернулся к дверям своей возлюбленной, — напрасно! И еще с большей досадой отправился он обратно домой.
А между тем Гедвига хорошо слышала, как стучался Карл, она видела его, но не хотела впустить. Она тихо и быстро продолжает теперь разрушительную работу. Ей прилежно помогает седой шестидесятилетний старик. Его загорелое лице изрезано глубокими морщинами. Широкий рубец идет через весь лоб. Глаза его искрятся холодным и острым огнем. Неприятно встретиться с таким взглядом: он пронизывает всю душу насквозь. Короткие, стоячие волосы, густые брови, громадные подкрашенные усы на толстой верхней губе придают немного миловидности всей неприятной фигуре старика.
Оба эти лица сильно заняты. Из потаенных мест вынимают они кипы бумаг, денег, карт, планов и оружия, и упаковывают их в ящики, дорожные чемоданы, и затем уничтожают все следы беспорядка. По временам Гедвига подходит к окну, тщательно смотрит по всем направлениям и, удостоверившись в,