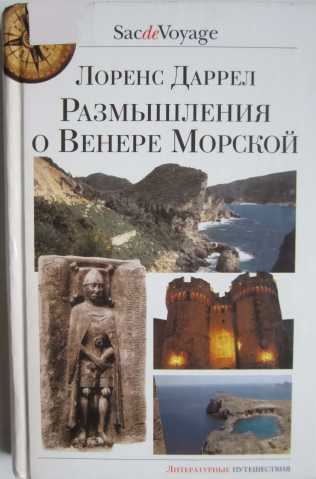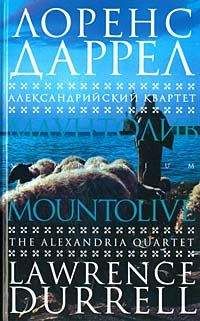открытые рубашки, которые сегодня носят очень многие. Разве что в праздничные дни старики откроют дубовые сундуки и вынут традиционные короткие куртки с висячими рукавами в форме орлиных крыльев, синие турецкие шаровары и кушаки, под которыми прежде прятали пистолеты с серебряными рукоятками или кинжалы. Ремесла не умерли, но сегодня катастрофически не хватает материалов, которыми мать семейства могла бы украсить костюм мужа и свой собственный изысканным золотым шитьем и алым кантом. Хотя новых костюмов не шьют, бережно хранят старые, и в праздники женщины снимают повседневную одежду и танцуют в дивном традиционном наряде. На это стоит посмотреть. Лучшие танцовщицы на острове — девушки из Эмбоны, деревни у подножья Атабироса; после них — жительницы Сорони.
Прежде чем устроиться, генерал Гигантис решил совершить официальную поездку по острову — с Бригадиром, дабы в его компании предстать перед народом. Гидеону же он открыл свое истинное намерение — перепробовать все вина на четырнадцати островах, а судя по тому, что мне известно о Бригадире, тот примет план Гигантиса безоговорочно. Излишне говорить, что Гидеон напросился с ними.
— Как глава департамента сельского хозяйства. — говорит он, — я несу некоторую ответственность за вино и пищу. К тому же старина Гигантис может нас кое-чему научить.
По новому положению о цензуре я тоже несу ответственность — за печать; но в тексте сказано буквально следующее: «Вся печатная продукция должна быть предъявлена офицеру службы информации до выхода в свет», — и родосцы поняли это слишком буквально. В моем кабинете теперь толпы людей, жаждущих получить разрешение на изготовление наклеек для пивных бутылок, коробок, театральных афиш и всяких рекламных листков. Круг моих знакомств возрос в сотню раз. Писатели, однако, попадают в мои сети редко. Но как раз сегодня дверь резко распахнулась, и предо мной предстал огромный, бледный, как мертвец, субъект с изъеденными зубами и закрученными усами, облаченный в испачканную кровью блузу. Он оказался мясником и поэтом из соседней деревни.
— Правда ли, — ужасно скривившись, произнес он таким глубоким и звучным голосом, что я сразу опознал в нем деревенского оратора, — правда ли, что демократичные англосаксы подвергают цензуре произведения искусства?
Я признал, что это правда [86]. Он вздохнул и уставился в потолок.
— Какое разочарование, — сказал он, — для того, кто видел, как бежали итальянцы, — точь-в-точь трусливые зайцы.
Он извлек из-под блузы мятую пачку линованной писчей бумаги, которую торговцы используют для своих записей, и протянул мне ее со словами:
— Я Маноли, мясник, а это моя эпическая поэма.
Я с трудом разбираю чужой почерк, правда, текст был написан аккуратно. Но я не стал этого говорить — хотелось узнать гостя получше.
— Прочтите небольшой отрывок, — сказал я.
Его глаза загорелись, и, вскочив на ноги, он без всякого стеснения начал. Читал он с комичной, но в то же время впечатляющей самозабвенностью. Поэма представляла собой образчик высокопарной чепухи, написанный лающим шестнадцатистопным размером и озаглавленный «Невзгоды и тяготы Родоса под гнетом фашистов». Жаль, что рядом не было Гидеона, он насладился бы вместе со мной. Мясник Маноли очень старался. По правде говоря, читал он не очень бегло, и монотонный ритм поэмы требовал предельного внимания для сохранности размера. Каждое ударение он отмечал легким кивком. Чтение заняло около двадцати минут. Его могучая декламация не осталась незамеченной; сначала на цыпочках вошла Э., потом греческий редактор Костас и, наконец, барон Бедекер, сжимавший в руке несколько испачканных фотографий. Маноли их появление нисколько не смутило; он продолжал бубнить нараспев, только слегка повернулся к вновь пришедшим, дабы они тоже могли насладиться представлением. Доходя до конца страницы, он восхитительно небрежным жестом бросал ее на пол, так что в конечном итоге в руках его ничего не осталось, а поэма лежала разбросанная у его ног.
Костас прилежно собрал страницы, еле с лерживая смех. Маноли стоял, скрестив на груди могучие руки, на лице удивительным образом отражались и смирение, и гордость.
— Замечательная вещь, — сказал я.
Остальные слушатели пробормотали подобающие слова. Мясник поклонился со скромной сдержанностью, хотя явно был высокого мнения о своей поэме.
— Я хочу напечатать ее, — сообщил он. — Чтобы осталась память о наших страданиях.
— Костас, — торжественно сказал я. — Дайте мне печать.
Костас почтительно подышал на черный квадратик и подал мне печать, еле заметно подмигнув. Я с величайшей серьезностью поставил на рукопись печать и отдал ее мяснику, который снова запихнул ее под окровавленный фартук.
— Благодарю вас, сэр, — сказал он и, горячо пожав мне руку, удалился.
Позже, когда мы вышли прогуляться по яркому солнцу до гостиницы, к нам подбежал запыхавшийся ребенок. В седельную сумку, которую я нес на плече, он сунул сверток, испачканный кровью.
— Это от Маноли, сэр, — пискнул он.
Я слегка опешил. Ведь здесь столько Маноли: только среди типографских рабочих их трое. Потом я сообразил, кто это. В свертке были бараньи отбивные, дар прирожденного поэта.
Тимахид Родосский был эпическим поэтом, об утраченном труде которого Гидеон скорбит как никто другой. Это его единственная крупная эпическая поэма с многообещающим названием «Обеды». Был ли то просто перечень обедов, которыми он насладился в прошлом, или поэма была посвящена дивным обедам, которыми он желал бы насладиться, если бы располагал средствами? Мы никогда этого не узнаем. Парменон с Родоса прославился поваренной книгой, которая также, к несчастью, утрачена. Она помогла бы выяснить, что имел в виду Линкей Самносский, который в своих сочинениях воздает особую хвалу деликатесам Родоса, к которым причисляет афию (анчоусы?), эллоп (рыбу-меч?) и алопекс (акулу?). Предположения в скобках принадлежат не мне, а Торру.
Среди неразобранных разрозненных записей мне попался кусочек о поездке в Калитею с Миллзом и Э. на прошлой неделе. Несколько сумбурных строк о купании в темном море под ясным и безлунным небом: «Вокруг только изломанные громады вулканических скал, скалящихся драконьим оскалом. Запах сурепки и надоедливого жасмина. Темная соленая вода тепла после целого дня под южным ветром. Иногда прохладный воздух и холодные течения выползают, как змеи, из скалистого входа в гавань. Висишь в море, как в паутине, руки раскинуты, пальцы растопырены, смотришь вверх и назад сквозь мокрые ресницы на расцветшее звездами небо, огромные пласты которого скользят вокруг, как гладкие стеклянные полосы, так что можно протянуть руку и оттолкнуть планеты. Тишина, пульсирующая тихими голосами и сбивчивым скрипом весел. Тишина не была полной, точно воздушные мембраны, сырой и липкий гуммиарабик, были склеены теплой липкой ночью, напоминающей о том, что тишина всего лишь звук во взвеси, состоящей из многих элементов. Потом в грушевом саду над гаванью мимолетное счастье: прозрачный сладкий виноград