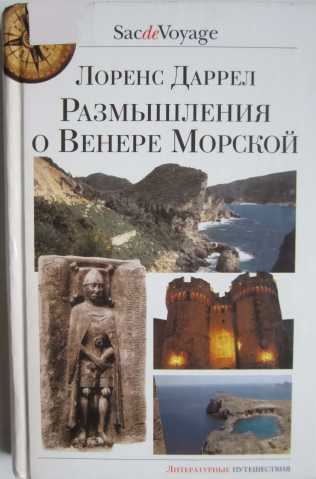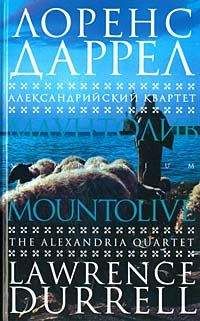темнеющие минареты мечети зажглись голубым сиянием, это было похоже на свет, которым отливает свежая копирка. Темные тени беженцев, уже не воспринимающих привычную красоту, сновали у разбомбленных домов, перекликались пронзительными голосами, зажигали лампы, выставляли свою потрепанную мебель на продажу, громко торгуясь. Гидеон поднял стакан с розовым вином к алому небесному свету, будто хотел поймать в него последние лучи солнца.
— Где еще, — сказал он, — Гомер смог бы найти прилагательное «розовоперстая», если бы не видел закат на Родосе? Смотрите!
И в самом деле, при этом волшебном свете его пальцы, просвечивавшие сквозь вино, казались коралловорозовыми на фоне пылающего неба.
— Теперь я уверен, Гомер родился на Родосе, — серьезно добавил он.
Я видел, что он слегка опьянел. Он жестом велел мне сесть и тоже взять стакан, и какое-то время мы изучали свои пальцы сквозь наполненные стаканы, а потом торжественно выпили за Гомера. («Не за тебя, дурачок», — сказал он псу.) Несколько секунд вся улица переливалась неземным светом — как в театральной сказке, — а потом с холма спустилась темнота. «Цветной витраж, разрушенный гранатой».
Мы пошли по узким неосвещенным улицам, пару раз заблудились, потом наткнулись на ворота Святого Павла и пробрались сквозь их темный силуэт в двадцатый век. В новом городе горело несколько разрозненных огней, но уличное освещение еще не восстановили, и мы шли в глубокой безмятежной тьме, пока в вечернем небе проявлялись первые звезды. Тогда-то, помню, мы и наткнулись на сад, окружающий мечеть Мурада Рейса [11], — сад, в глубине которого я потом обнаружил виллу Клеобула; тут мы посидели немного над турецкими надгробными камнями, покурили и насладились темнотой, которая уже (весна была в разгаре) обрела почти осязаемую мягкость, шелковистость старого пергамента. И здесь, как я понимаю, мы были очень близки по духу старине Хойлу — ведь именно он со временем стал предпочитать этот сад всем прочим, лежал в усыпанной звездами бликов траве, куря свои сигары или подремывая долгими золотыми вечерами в шезлонге. Хойл еще не появлялся, хотя самое время его представить, потому что в обманчивой перспективе памяти мне видится, что мы каким-то образом уже встретились с ним. Правда, Гидеон знал его много лет назад; они были примерно ровесниками. Но на самом деле прибытие Хойла на Родос отстоит от той первой недели знакомства с этим островом примерно на месяц. Он служил на Родосе британским консулом и скоро должен был возвратиться. Кроме печатного оборудования, препорученного мне администрацией, было еще кое-какое имущество, принадлежавшее последнему консулу: грязные столы из консульства, шифровальные журналы, какие-то старые жестяные ящики. Они были аккуратно сложены в подвале, где хранились захваченные нами типографские шрифты, и постоянно всем мешали. Мы вечно набивали о них синяки и потому завели при вычку злобно лягать ящики, если приходилось работать именно в том подвале, и Хойл невольно стал казаться нам личностью столь же назойливой и всем мешающей, как его пожитки сотрудникам газеты. Поэтому я с таким облегчением узнал однажды утром, что он приехал и как раз осматривает свое сгруженное в подвал имущество. Я торопился представиться ему, и наша встреча произошла в весьма неформальной обстановке, к чему он, видимо, совершенно не был готов, как и я. Он стоял в подвале, лишь отчасти облаченный в свою консульскую форму и парадную фуражку, и, брезгливо щурясь, смотрел в допотопный телескоп — с обратной стороны. На полу валялись — по щиколотку — самые невероятные вещи, как консульские, так и его личные. Помню связку сигнальных флагов, бесчисленные карточки с шифровальными ключами, тома свидетельств о рождении, цилиндр, птичью клетку, не надетые еще детали формы консула, детективы, секстант, кинопроектор, несколько теннисных ракеток и бог знает что еще. Хойл поразительно походил на испуганного щенка. Он опустил телескоп и застенчиво снял фуражку «Непостижимо, — сказал он, — сколько хлама способен накопить человек». Я поддакнул ему Мы с некоторым смущением представились друг другу. Я еле сдерживал смех, а Хойл, казалось, был изрядно сконфужен. Он подобрал рапиру и принялся делать праздные выпады в воздух, пока мы разговаривали.
Маленький, кругленький, с большой головой и сверкающими глазами. Его повадки на первый взгляд казались несколько наигранными, так каку него была очень необычная манера говорить, глотая слова, и варьировать тембр голоса от дисканта до баса, из-за этого возникало впечатление, будто при разговоре он раскачивается на детских качелях. Впечатление усиливалось еще и тем, что он как бы пилил воздух указательным пальцем и в воздухе же расставлял точки в конце предложений. Впоследствии я понял, что ум его превыше всего ценил точность, а сердце так и не избавилось с возрастом от милой детской застенчивости. Однако легко было обмануться, приняв медлительность его речи за признак медлительного мышления. Все обстояло совсем наоборот. Идеи настигали Хойла очень быстро, и его глаза тут же вспыхивали; но поиски точного выражения вынуждали его останавливаться, однако даже удачное слово никогда его не удовлетворяло. Под стать неторопливой речи была его неторопливая походка, которая тоже поначалу сбивала с толку. Хойл ходил с такой нарочитой медлительностью и с таким сонным видом, что — грешен! — казалось, он редкостный ленивец. Но и это было совсем не так. Причиной того, что он вечно плелся, как восьмидесятилетний старик, было слабое сердце, которое нужно было постоянно оберегать. Поразительная вещь: его интеллект даже этот физический недостаток обратил себе на пользу. Человека, который вынужден каждые пятьдесят ярдов останавливаться, никто не посмеет осудить за капризный нрав. Хойл совсем не капризничал, он был спокоен и невозмутим, как ребенок; и раз уж ему приходилось останавливаться после каждой самой незначительной нагрузки, он научился видеть мельчайшие детали, которых мы попросту не замечали. Вынужденный каждые десять секунд переводить дух, Хойл обращал внимание и на одинокий цветок у дороги, и на мелькнувшую в глубине дверного проема надпись, которую мы просмотрели, и на небольшое отклонение от традиционного архитектурного стиля. Жизнь радовала его своей нетривиальностью, и ни одна прогулка Хойла не обходилась без множества тонких наблюдений, на которые мы с Гидеоном были неспособны. Гидеон любил подчеркивать, что смотрит на жизнь «с высоты птичьего полета»; соответственно взгляд Хойла можно было описать как «через микроскоп», учитывая эту страсть к частностям.
— Интересно, — говорил он, — отчего Муфтий носит обувь, которая ему мала? Я видел сегодня, как он хромает.
Или:
— Интересно, почему на Родосе привязывают кошек? Я сегодня утром видел одну, привязанную к дверной ручке [12].
Гидеон, сраженный нелепостью подобных наблюдений, изображал притворное негодование:
— Послушайте, Хойл, — говорил он, — не понимаю, с чего вы