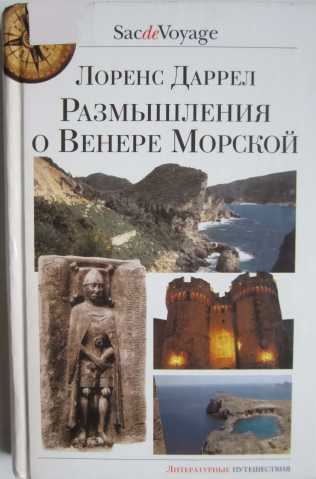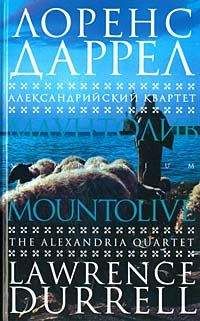чувством? И уж конечно настоящие англичане не выходят из себя, как случалось Миллзу, когда он с упоением затевал домашний скандал. Но таков уж был Миллз, все эти затеи были частью его жизни… В каком-то смысле это больше его книга, нежели ее, поскольку именно он обозначил ее контуры. Помню, одним темным зимним вечером он сидел на вилле Клеобул, жарил каштаны на огне, а Хлоя (после пятой попытки заставить его идти домой), сбросив башмаки, спала на диване, — помню, как он повторял своим звучным баритоном:
— Надеюсь, вы когда-нибудь напишете книгу об острове, когда-нибудь, когда вам захочется. Не думаю, что Гидеон допишет свою историю, а Хойл свое исследование местного диалекта. Но здешняя жизнь требует книги. Важны не история, не миф — скорее, пейзаж и атмосфера. «Заметки собеседника», что-то вроде этого. Попытайтесь ее написать, ради пейзажа… даже ради этих странноватых месяцев перехода от запустения и разрухи к нормальной жизни.
Не помню, что я ответил. Но теперь я понимаю, что он просил создать некий достоверный памятник очарованию и красоте нашего пребывания там, на Родосе; прелести золотых, окропленных солнечным теплом месяцев, наслаждаться которыми потом мог только Хойл, когда остальных разбросали по миру наши профессиональные обязанности и явное невезение, оно, как говаривал Гидеон, всегда настигает меломанов, достигших острова, по которому томилось их сердце. Когда наша беседа на миг замирала, из-за окна доносился рев моря, омывающего опустевший пляж, и свист ветра в кронах сосен и в олеандрах сада.
— Прежде всего, — говорит Миллз под аккомпанемент лопающихся каштанов, присыпанных мягким древесным пеплом, — прежде всего, представьте своих главных героев, сразу. Пусть читатель сразу решит, нравятся они ему или нет. Чтобы все было по-честному. Тогда он просто не станет читать дальше, если они ему не понравятся. Вот так и надо начать…
И только один портрет я не готов представить — портрет Венеры Морской. Если читатель когда-нибудь навестит ее в ее каменной клетушке, он поймет почему. Дух места или эпохи может быть назван, но описать его почти невозможно. А Венера… Когда ее достали в то солнечное утро из сырого подвала, где ее прятали; когда разломали футляр, в котором она хранилась; когда ее, наконец, подняли из тьмы на блоках, медленно вращающуюся на конце троса — кто бы из нас не узнал покровительницу острова, гения Родоса? («Статуя женщины: период неизвестен, найдена на дне родосской гавани, повреждена морской водой».) Я все еще вижу лица моих друзей, окруживших темный люк, из которого она так торжественно поднялась к солнечному свету. Хойл и Гидеон сидят верхом на доске; Эгон Хюбер, который помогал ее зарывать, улыбается, он счастлив, что снова ее видит; а Миллз, сержант Крокер и толпа босоногих уличных мальчишек кряхтят и сопят, вцепившись в поднимающие ее канаты.
Она поднялась, будто рожденная из пены, медленно поворачивая изящное тело из стороны в сторону, точно кланяясь публике. Морская вода лизала ее столетиями, и мрамор стал похож на белый каменный мармелад, едва ли хоть одна черта осталась четкой, какой она вышла из-под резца. Но настолько грациозной была вся ее поза — стройная шея и тугие груди, так любовно изваянные, гибкая линия плеча и бедра, — что отсутствие строгих контуров делало ее красоту более нежной и волнующей. Вместо четких классических черт она обрела нечто юношеское, еще не до конца сформировавшееся. Совершенство ее тела оттенялось совершенством лица, но не греческой матроны, а юной девушки. Мы пронесли ее, спеленатую мешковиной, по коридорам Музея, по лестнице, в маленькую комнату, где ее можно найти теперь. Это довольно-таки уродливый каменный чулан — его выбрал для нее какой-то глупец, считавший, что она слишком повреждена и может выглядеть красивой только в определенном ракурсе; вот откуда взялся этот неестественный холодный свет, который играет на восхитительно высеченной спине и делает столь резкими и почти невидными эти невинные черты. Но через какое-то время глаза привыкают к темноте, и можно провести рукой по холодным губам и бровям, по каменным косам. Как будто ее отлили из воска и быстро пронесли сквозь пламя, достаточно сильное, чтобы сгладить ее черты, но не вовсе изменить их; она пожертвовала изначальной зрелостью ради вновь обретенной юности.
Однажды утром ее вытащили сетью рыбаки. Они подумали, что это богатый улов; но то была всего лишь тяжелая мраморная фигура Венеры Морской, опутанная водорослями, и только несколько испуганных рыбок бились, похожие на серебряные монеты, возле ее безмятежного белого лица с невидящими глазами.
Теперь она стоит в родосском Музее, сосредоточенная на своем внутреннем мире, размышляя о том, что творит время. Пока мы здесь, мы останемся ее рабами; точно наши мысли навсегда отравлены ее таинственным сиянием — сиянием мраморной женщины из далекого прошлого, величайшие надежды и идеалы которого рассыпались в прах. За ней и благодаря ей все то, что значит для нас Греция, сияет печальной красой, как разбитая капитель, как осколок изящной вазы, как торс статуи, воздвигнутой в честь надежды.
Глава II
О СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ
Из окон моего кабинета видно несколько кривых улочек старого города, где вечная толчея. Эта восхитительная точка обзора позволяет тайком наблюдать за разговорами и ссорами греков. В полдень я видел небольшую процессию: отец, мать, за ними следовали двое малышей и еще толпа разномастных родственников. Отец шел во главе, неся икону Богоматери, с которой свисала зажженная лампадка. Видимо, они переезжали. Мужчина предусмотрительно заслонял огонек лампады рукой, чтобы ветер не задул его — это дурной знак. Маленькая процессия торжественно повернула за угол и скрылась. Глядя на серьезные лица детей, я понял, что мне очень хочется, чтобы семейная икона благополучно прибыла к двери нового дома, чтобы непотухшая лампада помогла им добиться удачи в будущем году, вопреки жестоким испытаниям, которые готовит жизнь. Безусловно, подумал я, самодостаточность хронологии в истории порождает прискорбные заблуждения: на самом деле история того или иного места, распыленная временем, остается живой в рассказе, в жесте, в интонации, в грубом обычае. Ни одному учебнику не уловить полностью ее черты. К примеру, здесь, на Родосе, можно услышать песни времен крестоносцев, при том что здесь бытуют верования в богиню пресной воды, которые превосходят древностью Платона.
Эгейское море все еще ждет своего художника — ждет во всей этой безыскусной чистоте цвета и формы, ждет, когда кто-нибудь сойдет с ума от его красоты, обмакнув кисть в краску. Глядя на него со сторожевой башни Кастелло, с древнего храма в Линдосе (или Линде), начинаешь рисовать