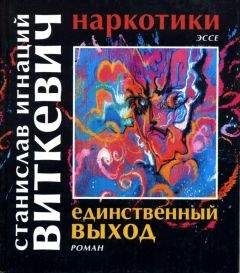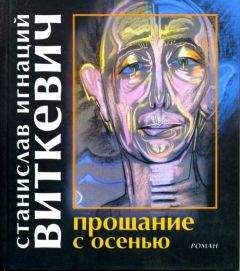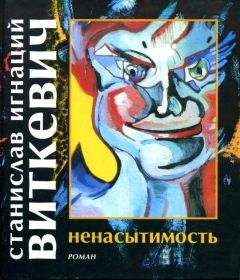Марцелия, хлеставшего виски прямо из бутылки, они с Суффреткой завалили на козетку и сделали ему компресс на сердце. Он беспрерывно болтал, как будто в нем вдруг лопнула какая-то перепонка, до сих пор сдерживавшая словоизвержение. Страшные все это были вещи, и с ужасом вслушивался в них безвозвратно уходивший в себя Изидор, свернувшийся на диванчике до размеров комнатной собачки. Он впитывал слова друга, как сладко-горькую отраву, разрываясь между диаметрально противоположными чувствами — и в одних, и в других он попеременно черпал то адскую муку, то «дивную» сладость, причем порой совершенно независимо от их типа.
Жизненное содержание смешалось в отвратительную говнообразную размазню. «Pas de grandeur dans cette direction là»[246], но надо было идти вперед. Несозданная система, как грозное мощное привидение, зависшее летучей мышью над началом этого разговора, постепенно становилась меньше, мельче, мутнее, пока не превратилась в какое-то не родившееся еще во внутренностях души дерьмецо. А тот, другой, все молол языком, как обреченный на нечеловеческие муки, заходился, харкал, плевался и говорил «как заведенный», и каждое слово было для друга и смертельной пулей, и конфеткой одновременно. Потому что Изя хотел быть добрым любой ценой, а тут жизнь, казалось бы, совершенно пассивно, в силу одного лишь факта существования Марцелия, перевернула все его дела от самых основ до самого зенита. Кто должен был за это ответить и перед кем? Не перед Пэ-Зэ-Пэпом же; нет уж, перед кем угодно, только не перед ним. А там, дома (он наверняка знал об этом точнее, чем любой теософ или астральный ясновидец), Русталка, которую он оставил еще в постели под шелковым оранжевым одеялком, как раз начинала «хлопотать по дому», разнося свою отмеченную его мужским началом женственность по всем уголкам «опрятненькой квартирки». Дело ведь не в хоромах и первоклассных поварах, и не в драгоценностях, не в туалетах, не в безделушках и картинах (так в чем же, черт побери?!). Почему все это кажется ему сегодня таким ненавистно жалким? Ну да, он знал об этом: пока что на повестке дня его собственная духовная структура, его личное величие, актуализация которого (слава, памятники, признание, деньги и т. п.) могла быть, но не обязана была быть всего лишь подчиненной функцией первого.
Нет, так жить он больше не мог — он должен собственными силами поставить на ноги и ее, и себя, и этого вот несчастного отравленного мученика Великой Химеры и отнести их обоих на своем жалком горбе в то измерение мысли, в котором все откупится и окупится (ни малейшей иронии), как настоящим чеком, выписанным на солидный банк (или что-то в этом роде — Изидор не был силен в финансовых сравнениях). Заигрывать с жалкой публикой? Ну нет уж!
А тот несчастный все болтал, и постепенно из его болтовни проступал разговор двух «духовных братьев» — самый страшный из всех возможных разговоров — разговорчик-зараза, разговорчик-смерть, разговорчик-предательство, предательство любви, чести и дружбы. Надо обладать реальной силой, чтобы самому себе предъявить требования, если такой силы нет, то ты — достойный презрения гнилой потрох — и эту банальную истину оба ощущали костями, но не более ли истинно воплотил ее в своем падении Марцелий? Не был ли он в большей степени тем, кем должен был быть, если вообще имеет хоть какой-нибудь смысл вся эта болтовня о миссии и ее выполнении — не чепуха ли это? Не был ли Марцелий «героем сданного плацдарма», в то время как он, Изидор, стал удобно офилистерившимся самообманщиком, делающим вид, что может еще сказать в философии нечто важное. «О Боже, Боже, — думал Изя, — как удобно было бы, если бы Ты был, несмотря на весь вызываемый Тобою страх; я бы тогда помолился и знал, что делать». Он завидовал Русталке, ее духовной уверенности, пусть даже достигнутой ценой обмана. Он внимательнее прислушался к словам Марцелия, долетавшим откуда-то из другого мира гадкой Белой Колдуньи: они были точно такими же, какими оперировали здесь, в четырехмерном пространстве Уайтхеда — только они были беспорядочно спутаны и облачены в больничные горячечные рубахи, в кровавые мокрые пятна и сухие электрические зеленоватые зигзаги. Безумие пребывало между ними, а не в них.
Время от времени Марцелий издавал стоны и в страшном возбуждении заламывал пальцы. Страшные то были минуты, когда он больше не мог рисовать, когда скорость частичных мыслей (и даже общих концепций) превышала технические возможности ящерных, человечьих пальцев, не созданных для такой работы. Весь кошмар культуры, созданной скотинкой, кошмар мозговой коры, совершенно к культуре той au fond не приспособленной, в том, что и культура, и кора — суть новообразования, с помощью которых человечество пожирает само себя.
Мозговая-то кора —
Это просто мозга рак.
Для решения проблемы
Пусть отыщется дыра, —
вдруг завыл он.
— Поверить в ценность искусства, — бормотал он как в самом страшном жару, — может только безумец. Я хотел все с нового листа — не получилось. Из моих грязных воспаленных кишок вытащил я на свет божий ужас человечества, точно так же, как с его великолепием поступали старые мастера, вытаскивая его из промытых в холодной свежести сломанных отросточков ароматных своих кишочек.
И з и д о р: Прекрати все валить в одну кучу. Это твои п р о б л е м ы — поговорим лучше о т е б е с а м о м. Я обязан спасти тебя. Поверь в мою дружбу — раз в жизни поверь.
М а р ц е л и й: Еще чего! Поверить из слабости, себе на позор. Это не мои проблемы, а общие — всего искусства — всего! — заревел он. — Кто этого не понимает, тот кастрат без яиц, вообще не понимающий ни искусства, ни человечества. Эти маленькие оптимизмики хороши для нудных кретинов, желающих с показушным вдохновением махать кисточками (sic — сик!) и испытывать чувство так называемой этими парфюмированными вонючками «позитивной» работы, социально, этически позитивной для их мелочных душонок скромных трудяг. «Малые мира сего» — в жопу их. Чего нам не хватает, так это масштабности. Я знаю: все, что я говорю, несправедливо, но так обязано быть. Я оперирую иной скрижалью ценностей в ином измерении духа. Но ведь в жизни сфера искусства и жизненной реальности пересекаются — существуют ли образцы перехода из одной сферы в другую, пребывания в этом месте пересечения? (Разум его явно мутится, — думал Изидор, — что же будет, что же будет?) О, адская мазня! — продолжал Марцелий. — Хотелось бы мне так же заполучить в свое распоряжение ад, как Юзя Досковский получил пансионат «Ярчиско» в Закопане по дороге в Ящурувку. Когда я еще соберусь туда? Ах этот проклятый ПЗП! Во мне клубятся жуткие, вихреобразные напряжения сил, и не помогут мне больше компрессы — сердце переместилось на другую сторону. Суффретка, подай альбом — я должен это как-то записать, хотя все у меня валится из рук и из головы. Лапы прочь, Изя, не то задушу, как щенка, — теперь я опасен и не советую дразнить меня.
Он выкатил глаза и рванулся. Радужек уже не было совсем: глазное дно светилось угрюмым пурпуром через зрачки величиной (как в сказке) с «мельничные жернова».
— Мир кишит призраками невыполненных дел! — неожиданно взревел Марцелий «nieistowym» голосом, — хочу быть всем! Здесь речь идет о всегости в таковости (что за чудесное понятие — оно соответствует твоему многообразию в единстве в метафизике) — об искусстве, о каждом его произведении и каждом индивидуальном существе...
— «И о клопе, который тебя кусает ночью, старый лицемер?» — вдруг ни с того ни с сего ехидно спросил Изидор, цитируя реплику из пьесы «Дюбал Вахазар» этого говнюка Виткация из Закопане.
— О нет, клопов у нас нет! — неожиданно для себя слишком горячо запротестовала бедная Суффретка.
— Всегость в таковости — безумно твердил Марцелий. — Не обижайся на нее, она святая, она все понимает à la lettre — «it is a bloody kind of matter-of-fact woman»[247] — и таковость во всегости — разве это не чудо, что я открыл такое понятие! — он замер в диком восторге, и трещина на потолке показалась ему чем-то самым прекрасным в мире (а вы, сукины дети, ничего о том не знаете!).
— Вздор — завтра, как только ты протрезвеешь, ты будешь об этом думать иначе, так же, как о гениальных идеях из сновидений, которые наяву кажутся нам вздором и им же и являются...
— Но, пан Вендзеевский, он ведь никогда н е т р е з в е е т, он дошел до состояния равномерно плотной непрерывной ненормальности, он совсем не спит, раз в неделю впадает в абсолютно скотскую апатию, это не сон, это своего рода паралич, полусмерть. Я не знаю, что делать — я так люблю его, а если не даю ему делать того, что он хочет, он укоряет меня, что я не ставлю его ни во что, — заголосила несчастная так страшно называемая Суффретка и разрыдалась. — Что делать, что делать?..