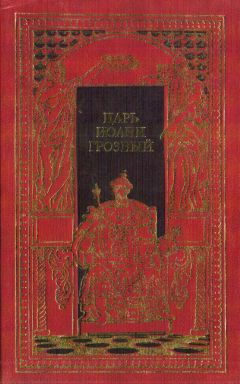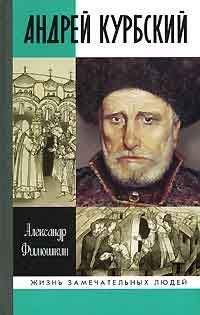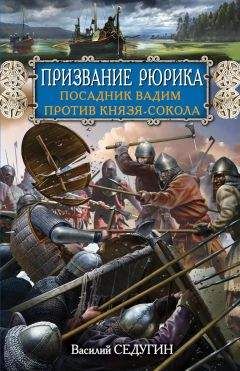— Но в чём обвиняют меня? — спросил он.
— В чём обвиняют! — сказал Курбский. — Ты — брат Адашева, ты — зять Турова; а здесь примечают за всеми нашими действиями, передают все наши слова...
— Пусть передают! — воскликнул Даниил, — я сам предстану пред Иоанном, открою чувства души моей. Унижение тяжелее смерти.
— Отложи до времени отъезд твой, — сказал Алексей...
— Чего мне ожидать? Ты знаешь, какие вести получил я: жену мою три месяца не допускают в темницу несчастного отца, и безвестность о нём истомила её. Она не встаёт с одра болезни. Все меня призывает в Москву. Я уже писал к Иоанну и жду его слова.
Через несколько дней некоторые из жителей Феллина увидели трёх русских воевод, выехавших в поле за городские ворота. Всадники пронеслись так быстро, что нельзя было разглядеть их внимательно, но можно было заметить, что один из них был без панциря, в чёрной одежде; чело его закрывали долгие волосы; но на груди, в свидетельство доблести, блестели золотые. Отъехав далеко по долине, два спутника прощались с ним; нельзя было разобрать их слов, но долго прощались они; наконец третий с усилием вырвался из объятий их, хлестнул коня и помчался в пыльную даль. Тогда двое других поворотили обратно к Феллину, и когда любопытные ливонцы спросили проходящих воинов о них, то услышали славные имена Курбского и Адашева.
— Так это царский наместник Феллина? Это добрый Адашев? — говорили ливонцы, смотря на Адашева.
Часто прихотливая рука владельца полей заставляет светлый источник переменять течение, но где ни появляется он — везде благотворит земле. Удалённый от двора царского в город ливонский, Адашев по-прежнему благотворил человечеству. Несколько городов ливонских хотели добровольно сдаться ему. Так торжествовала добродетель; но зависть гонителей желала торжествовать и над нею. Новые успехи Адашева причтены были к новому его чародейству. Внезапно повелел Иоанн заключить его в Дерпте и содержать под стражей. Содрогались воеводы, сетовали воины; далеко за стены городские провожали Адашева благодарные феллинские жители.
Уже не было при нём никого из друзей; Курбский расстался с ним, ведя воинов на ратные подвиги.
Только два верных служителя: добрый Непея и Василий Шибанов, любимый слуга Курбского, оставались при Адашеве в башне дерптской, где суровые татарские стражи стояли у всех выходов и свет дня тускло проникал в толстые стены сквозь толстые решётки. Силы Адашева ослабевали, ещё крепился он, превозмогая терпеливо болезнь, но столько быстрых переворотов, столько перемен неожиданных наконец победили изнеможением твёрдость его...
Прошёл уже месяц со дня его заключения. Несколько дней служители замечали в нём какое-то уныние. В одну ночь Шибанов разбудил своего товарища.
— Непея! Боярин с кем-то разговаривает.
— Тебе так послышалось, — сказал Непея, — не меня ли зовёт он? — И бросился в покой Адашева.
— Откуда прибыли послы, и желают ли вступить в переговоры? — спросил Алексей Адашев вошедшего служителя.
Непея замер, не веря глазам своим.
— Я имею власть принять и отвергнуть предложения их, — сказал Адашев и посмотрел на Непею. — А, мой добрый слуга. Не ты ли захватил Беля? Жаль мне старца, но я буду умолять о пощаде его.
— Он казнён, — сказал Непея, вздохнув и покачав головою.
— Что говоришь ты! Он казнён! — воскликнул Адашев, силясь приподняться с одра. — Казнён! — повторил он и, закрыв руками лицо, отчаянно бросился на скамью.
Непея перекрестился, не спускал глаз с доброго своего господина и плакал.
Адашев умолк, но лицо его горело, он метался. Шибанов тосковал с Непеею, и оба не отходили от больного.
На другое утро Адашев, казалось, опомнился.
Шибанов подал кружку воды.
— Нет, — сказал Адашев, — вода не утолит моей жажды. Подай свиток!
Это был список апостольских посланий, начертанный рукою Адашева, который всегда с новым утешением его прочитывал.
Непея подал свиток, и Адашев успокоился.
По закате солнца болезнь приступила с новым порывом. Тоска и беспокойство усилились. Адашев забывался: то казалось ему, что он беседовал с Сильвестром, то думал, что видит Иоанна, то мечтал, что находится в семействе своём и приветствовал друзей своих, как будто бы его окружающих.
— Прочти мне, Курбский, твоё преложение беседы Златоуста. Тише, тише... нас всех назовут чародеями и первого — тебя. Тебя не остановят в пути ни морозная зима, ни знойное лето. Ты понимаешь греков. Ты друг Максима. В глазах Левкия — ты чародей! Сильвестр и Адашев чародеи, по совету их издан судебник. Мы обвинены, осуждены без ответа!.. Но государь! Сильвестр назидал тебя по власти веры, я говорил тебе по сердцу друга... О, государь! Тебе открыто сердце моё! Ты наедине воспретил мне называть тебя царём, ты хотел, чтоб я тебя называл Иоанном... Верь Иоанн, что мне любезна слава твоя, но добродетель в царе — любезнее славы... Иоанн, кто разлучает нас? Страшись ласкателей! Как моль тлит одежду, в которой кроется, так ласкатели тлят сердце, которому льстят. Презирай шутов! Царю нет времени слушать их, если он заботится о благе подданных. Страшись себя. Страсти, как огонь, распространяют вокруг себя тление. Угаси их — и будь над собой властелином. Повелевать собою славнее, чем повелевать другими. Государь, друг мой! Не предавайся в обман удовольствиям: излишество их истощает силы души. Удержи гнев твой. Милость — есть право царя на любовь народа. Помнишь ли, как славили имя твоё, когда для меня ты возвратил из заточения мудрого старца, грека Максима. Покровительствуй знаниям полезным. Розмысл[16] помог тебе под Казанью. Чти храбрых, в ранах их сияет мужество. Не ищи Бога в отдалённых обителях, но ищи Его в благих делах на пользу царства. Не верь доносителям: на одно слово правды услышишь десять слов клеветы. Не по клевете ли Туров в темнице?.. Брат мой! Брат мой, Даниил! Не проклинай врагов. Ты проложил путь в царство Астраханское, полное мечей и копий... Ты везде побеждал. Победи себя. Увы! Вспомни слова: «Одним языком прославляем мы Бога и отца и проклинаем человеков, сотворённых по подобию Божию!» Из тех же уст исходят благословение и клятва. Но, брат возлюбленный, течёт ли из одного источника вода сладкая и горькая...
Так говорил Адашев, он весь горел как в огне. Глаза его не могли узнавать окружающих. Тоскуя, в жару, бросался он из края в край одра своего; то вдруг вскакивал, то опускался без чувств на ложе; лицо его рдело, дыхание ускорялось, уста засохли — и ничто не могло утолить жажды его.
Иногда в исступлении он схватывал руки слуг, вскрикивая: «Слышите ли шум? Это бедные люди! Они пришли ко мне; на них ветхое рубище, дайте им от меня одежду. Голод томит их; призовите их ко мне: пусть они сядут за столом моим. Приблизьтесь, други, приблизьтесь! Я представлю царю челобитные ваши. Кто из вас несчастлив — я пролью с ним слёзы; кто из вас беден — я разделю с ним избытки мои».
Иногда, приходя в себя и тихий как ангел, он безмолвно смотрел на святую икону, но скоро снова впадал в забытье.
Напрасно усердный Непея приносил ему еду — Адашев не касался её. «Поди, — говорил он, — в ту палату, которая в саду моём обсажена густыми деревьями; там найдёшь ты десять несчастных, проказою страждущих: тело их в струпьях, но светла их душа. Отнеси им сии яства. Не говори о том никому: я тайно служу им в доме моём. Скажи, что я приду к ним омыть ноги их, они в язвах, а все несчастные — братья мои!»
Чаще всего Адашев вспоминал о супруге своей. «Подойди, — звал он, — соименница доброй царицы! Подойди, моя Анастасия, супруга милая! Ты усладила жизнь мою, я буду жить для тебя! Бог не дал детей нам, но Он послал нам сирот — и мы взлелеяли их как детей своих!»
Адашев таял в огне болезни. Так прошло восемь дней. На рассвете девятого дня послышался стук в железных дверях башни и вошёл Курбский. Он спешил в Дерпт обнять несчастного друга...
Лампада отбрасывала слабый свет на высокие своды башни и на горящее лицо страждущего. У ног его плакал Непея, у изголовья его молился Шибанов.
— Увы! — воскликнул Курбский, — ты ль это, друг мой, Адашев?
Адашев с усилием приподнял глаза и, как бы стараясь что-то припомнить, сказал изменяющимся голосом:
— Кажется, черты лица твоего мне знакомы! Кажется, я видел тебя в лучшие дни моей жизни?
— Алексей, ты не узнаешь меня?..
— Друг... прости!.. — произнёс Адашев и тяжко вздохнул, слеза выкатилась из глаз его.
Курбский взял его руку и с ужасом почувствовал, что она охладела в руке его. Печать тления изобразилась на прекрасном лице: оцепенели уста, померкли глаза, но последний взгляд их был взглядом ангела, отлетающего к небесам. Вскоре лицо сие прояснело выражением спокойствия, которое показывало, что никакое угрызение совести, никакое преступное воспоминание не возмущало последних чувств сердца добродетельного.