Ни с того ни с сего стало его мучить, что так долго не брался за инструмент. Он себе сделал стол, стул, кой-какие полки на стенах, но все это в первые же несколько дней, как поселился в заводе. Он боялся, что совсем разучится плотничать, а куда это годится? Потом пришло еше письмо, на сей раз от Зины, с неожиданно жирно-черными росчерками, и она его приглашала — с ведома папы — посидеть у ней вечерок. «Вы человек тонкий, Яков Иванович, — писала она, — и я уважаю ваш образ мыслей и манеру держаться; и не смущайтесь вы, пожалуйста, тем, как вы одеты, хотя, при вашем теперешнем жалованье, я уверена, вы можете себе позволить новое платье». Он сел к столу перед листом бумаги, думал-думал, но так и не придумал, что бы ей написать, и осталось письмо без ответа.
В феврале у него вдруг совсем сдали нервы. Он объяснял это своими заботами. Он сходил в то место, где изготовляли фальшивые бумаги, обнаружил, что это не то чтобы ему вовсе не по карману, хотя и дороговато, и решил обзавестись паспортом и пропиской на свое вымышленное имя. Он просыпался за несколько часов до того, как полагалось считать кирпичи при погрузке, мышцы у него были напряжены, грудь сжата, трудно дышать, и невыносимо было иметь дело с Прошкой. Даже задавая ему самый простой вопрос, он и то нервничал. Весь день он ходил раздражительный, проклинал себя за малейшую ошибку в отчете, хоть на копейку. Как-то на ночь глядя он прогнал со двора двух мальчишек. Он уже знал этих вредных шалунов, один — бледный, прыщавый мальчик лет двенадцати, другой — крестьянского вида, с пшеничной копной волос, примерно ему ровесник. Они забредали во двор после школы, вечером, кидались друг в дружку комьями глины, ломали хорошие кирпичи, дразнили лошадей в конюшнях. Яков их предупреждал, чтоб держались подальше. На сей раз он их увидел из своего окна. Они прокрались во двор со своими ранцами и швыряли камнями в курящийся над печами дым. Потом стали кидаться осколками кирпичей. Яков выскочил во двор, стал на них кричать, они не слушали. Тогда он к ним побежал, чтоб спугнуть. Они свистели, гримасничали, щупали свои гениталии, а потом, подхватив ранцы, побежали мимо сараев, взобрались на груду кирпичного лома, с нее на забор. Перебросили ранцы и перепрыгнули сами.
— Хулиганы! — крикнул Яков, грозя кулаком.
Возвращаясь в барак, он заметил, что Скобелев искоса следит за ним взглядом. И тут же дворник поскорей пошел зажигать газовые фонари. Немного погодя они засветились в сумраке, как зеленые свечи.
Прошко стоял у студильного сарая, он тоже смотрел.
— Ты как свинья резаная бегаешь, Дологушев.
Наутро к мастеру зашел полицейский исправник и спросил, нет ли кого на заводе, подозрительного по части политической благонадежности. Мастер сказал, что таких никого нет. Чин задал ему еще несколько вопросов и удалился. В ту ночь Яков не мог читать.
Спал он плохо и потому норовил лечь в постель, как только поест. Заснет сразу, но просыпается до полуночи, сна ни в одном глазу, с острым ощущением опасности. В темноте он боялся бед, о каких почти не думал в течение дня: конюшня в огне, сгорает с ним вместе, а он связан по рукам и ногам; лошади, обезумев, гибнут. Или он умирает от чахотки, от сифилиса, кашляет или мочится кровью. И — самое страшное: открывается, что он еврей. «Гевалт!» — кричал он, потом прислушивался, нет ли в конюшне возчиков, вдруг они слышали. Как-то приснилось ему, что Рихтер с тяжелым мешком за спиной идет за ним по дороге вдоль кладбища. Вот мастер поворачивается к немцу, спрашивает; что тот несет, а возчик, подмигнув, отвечает: «Тебя». Тогда Яков заказал фальшивые бумаги, заранее заплатил, но неделя шла за неделей, а он не являлся за ними. А потом, неведомо по какой причине, все как рукой сняло.
Началось спокойное, удивительное время, и первый раз в своей жизни он тратил деньги как ни в чем не бывало. Купил еще книг, писчей бумаги, табаку, пару штиблет, чтобы дать роздых ногам от сапог, роскошную банку клубничного варенья и кило муки: печь хлеб. Хлеб у него не всходил, и он пек из этой муки галеты. Еше он купил пару носков, исподнее — портки и рубаху — и недорогую сорочку, все самое необходимое. Как-то вечером, когда уж очень потянуло на сладкое, он зашел в кофейню, выпить какао и съесть пирожное. И он себе купил толстую плитку шоколада. Но потом он пересчитал свои рубли, оказалось, что он потратил больше, чем рассчитывал, и это его встревожило. Так вернулся он к скудости. Пробавлялся черным хлебом, вареным картофелем со сметаной, когда-никогда себе позволял яйцо. Штопал носки, латал старые рубахи, покуда живого места не останется. Берег каждую копейку. «Курочка по зернышку клюет», — бормотал себе под нос. У него были серьезные планы.
Как-то к ночи в апреле, когда трещал на Днепре толстый лед, а Яков — он продал книги, которые недавно купил, и потом гулял по Подолу — поздно возвращался в завод, ни с того ни с сего повалил снег. Когда взбирался в гору возле кладбища, он увидел, что какие-то мальчишки напали на старика, и криком их разогнал. Старик был еврей, хасид, в кафтане до пят, круглой раввинской шапке с меховой оторочкой и длинных белых носках. Он с трудом нагнулся, поднял со снега черную сумку перевязанную темной бечевкой. Он был ранен в висок, и кровь по волосатой щеке капала в седую, лохматую, надвое разделенную бороду. У него был ошеломленный взгляд.
— Что с вами, дедушка? — спросил мастер по-русски.
Хасид попятился, перепуганный, но Яков подождал, и старик ответил на спотыкающемся русском, что приехал из Минска к больному брату в еврейский квартал, но заблудился. А мальчишки стали в него бросаться снежками, начиненными острыми камушками.
Конка уже не ходила, снег падал густыми мокрыми хлопьями. Яков расстроился, разволновался, но решил отвести старика к себе — пусть немного отдышится, он промоет ему ранку холодной водой, а потом выведет, пока не явятся возчики.
— Идем со мной, дедушка.
— Куда вы ведете меня? — спросил хасид.
— Я обмою с вас кровь, а когда снег перестанет, покажу вам, как пройти в еврейский квартал на Подоле.
Он провел хасида во двор, потом к себе, в комнату над конюшней. Зажег лампу, разорвал самую свою изношенную рубаху, намочил и стер кровь с бороды старика. Ранка все еще кровоточила, но хасид не обращал на нее внимания. Сидел на стуле Якова и дышал, как будто шептал. Яков предложил ему хлеба и стакан сладкого чая, но от еды хасид отказался. Он был человек достойный, с длинными пейсами и попросил у Якова немного воды. Слегка полил себе на пальцы над тазом, потом вынул из кармана пакетик, несколько кусочков мацы в носовом платке. Благословил мацу и, вздохнув, пожевал кусочек. Тут только вспомнил мастер, что сейчас Пейсах. Его как ошпарило, даже пришлось отвернуться, пока отпустит.
Он выглянул в окно. Снег все еще падал, но за хлопьями тусклым кругом слабо светилась луна. Скоро перестанет, думал Яков, но снег валил не переставая. Луна исчезла, снова все было темно и снежно. Яков подумал, что придется подождать, пока приедут возчики, быстро пересчитать кирпичи, а когда уедут телеги, поскорей увести старика, пока не придет Прошко. Если и не остановится снег, старику все равно надо будет уйти.
Старик засыпал на стуле, просыпался, смотрел на лампу, снова засыпал. Когда возчики отворяли дверь конюшни, он проснулся, глянул на Якова, но Яков приложил палец к губам и пошел вниз. Он предложил хасиду свою постель, но, когда вернулся, старик сидел и не спал. Возчики нагрузили телеги и ждали, пока рассветет. Обмотали копыта цепями, но Сердюк говорил, если навалит снега, им не сойти со двора. И Яков тревожился не на шутку.
Поднявшись к себе, он постоял у окна, закутавшись в овчинный тулуп, глядя на снег, потом скрутил и выкурил цигарку, подогрел себе стакан чая. Слегка отпил, заснул на постели, и приснилось ему, что он встретил этого хасида на кладбище. Хасид спросил: «Зачем ты тут прячешься?» — а мастер ударил его по голове молотком. Ужасный сон, от него разболелась голова у Якова.
Проснувшись, он увидел, что старик на него смотрит, и снова ему стало не по себе.
— Что случилось? — спросил он.
— Что случилось, то случилось, — ответил старик. — Но снег перестал.
— Я что-то говорил во сне?
— Я не слушал.
Небо просветлело, можно бы идти, но хасид обмакнул в воду кончики пальцев, потом развязал на своем свертке бечевку и достал большой полосатый талес. Из кармана в кафтане вынул мешочек с филактериями.
— Где восток?
Яков, нервничая, ткнул в ту стену, где окно. Благословив филактерии, хасид одну медленно повязал на левую руку, другую на лоб, осторожно проводя тесемки по запекающейся ране. Покрыл голову просторным талесом, благословил его и стал молиться перед стеной, раскачиваясь взад-вперед. Мастер ждал, закрыв глаза. Сказав утренние молитвы, старик снял талес, бережно сложил и спрятал. Филактерии снял, поцеловал, спрятал тоже.
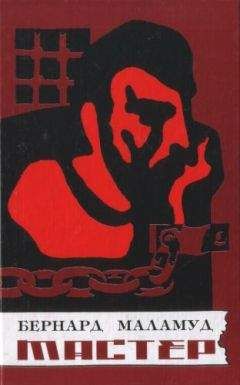


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)