— Что случилось? — спросил он.
— Что случилось, то случилось, — ответил старик. — Но снег перестал.
— Я что-то говорил во сне?
— Я не слушал.
Небо просветлело, можно бы идти, но хасид обмакнул в воду кончики пальцев, потом развязал на своем свертке бечевку и достал большой полосатый талес. Из кармана в кафтане вынул мешочек с филактериями.
— Где восток?
Яков, нервничая, ткнул в ту стену, где окно. Благословив филактерии, хасид одну медленно повязал на левую руку, другую на лоб, осторожно проводя тесемки по запекающейся ране. Покрыл голову просторным талесом, благословил его и стал молиться перед стеной, раскачиваясь взад-вперед. Мастер ждал, закрыв глаза. Сказав утренние молитвы, старик снял талес, бережно сложил и спрятал. Филактерии снял, поцеловал, спрятал тоже.
— Да вознаградит вас Б-г, — сказал он Якову.
— Премного обязан, но нам пора идти, — оказал Яков. Он весь вспотел в своей жидкой одежонке.
Попросив старика обождать, он сошел по заснеженным ступеням, обошел вокруг конюшни. Двор был белый, тихий, печи стояли в снежных шапках. Но телеги, груженные кирпичом, не двинулись никуда, и возчики всё сидели в бараке. Яков поскорей взбежал к себе, за хасидом. По весеннему снегу они заторопились к воротам. Он отвел старика под гору, к остановке конки, но пока они ждали, мимо, звякая бубенцами, прокатили сани. Яков кликнул сонного возчика, и тот обещался доставить еврея, куда надо ему на Подоле. Когда Яков вернулся во двор, казалось ему, что прошла длинная-длинная ночь. Он был выбит из колеи, непонятная тоска его одолела. На пути к конюшне ему встретился Прошко в самом веселом расположении духа.
Когда он вошел в комнату, Якову вдруг почудилось, будто кто-то был и хозяйничал тут, пока он провожал хасида. Будто все сдвинули, а потом сунули не туда. Он заподозрил десятника. Запах навоза, прелого сена сочился снизу, из конюшни. Он поскорей просмотрел немногие свои пожитки, но нет, все было на месте — утварь, книги, рубли в жестянке. Хорошо, что кое-какие книги он продал, брошюры сжег; темы все исторические, но иной раз история тоже бывает опасной. На другой день он услышал, что в пещере поблизости найдено мертвое тело, потом, обмирая от ужаса, прочитал в газете о страшном убийстве двенадцатилетнего мальчика, который жил в деревянном доме вблизи кладбища. Тело нашли в сидячем положении, руки связаны за спиной. Мальчик был в одном исподнем, разут, только черный чулок болтался на левой ноге; рядом были разбросаны окровавленная рубаха, школьная фуражка, пояс, учебники в карандашных каракулях. И «Киевлянин», и «Киевская мысль» напечатали фотографию мальчика, Жени Голова, и Яков узнал того прыщавого, которого он прогнал со двора с товарищем вместе. В одной газете сообщалось, что он уже неделю как умер, в другой — будто бы две недели. Полицейский исправник, осмотрев вздувшееся лицо и изувеченное тело, насчитал тридцать семь ран, нанесенных колющим инструментом. Согласно профессору Шерпунову из киевского медицинского института, мальчик истек кровью в результате множественных колотых ран, и «возможно, это убийство в ритуальных целях». Марфа Владимировна Голова, несчастная мать, вдова, опознала тело своего сына. В обеих газетах была помещена фотография — она прижимает голову бедного мальчика к безутешной груди, бессильно рыдая: «Скажи мне, Женичка, кто это сделал с моим сыночком?»
В ту ночь река вышла из берегов, затопила плесы по пригородам. Два дня спустя мальчика похоронили на кладбище, в двух шагах от его дома. Яков из своего окна над конюшней видел запорошенные апрельским снегом деревья, а среди деревьев и убогих могил черную толпу, в числе других богомольцев с посохами. Когда гроб опускали в могилу, взвились сотни листовок: ЕВРЕИ ВИНОВАТЫ. Неделю спустя киевский Союз русского народа вместе с членами Общества двуглавого орла водрузили на могиле мальчика большой деревянный крест — Яков смотрел издали, — одновременно, согласно вечерним газетам, призывая всех добрых христиан к новому крестовому походу против врагов-евреев. «Они хотят не больше не меньше как отнять у нас жизнь и Отечество! Русские! Берегите детей своих! Отмстите за безвинную жертву!» Ужасно, думал Яков, они затевают погром. Прошко во дворе щеголял двуглавым орлом на кожаном фартуке. На другое утро, чуть свет, мастер бросился в ту печатню, где заказал фальшивые бумаги, но печатню, оказалось, спалили. Он метнулся к себе, судорожно пересчитал рубли — хватит ли на дорогу до Амстердама, а то до Нью-Йорка. Упаковал скудные пожитки, перебросил через плечо мешок с инструментом и стал спускаться по лестнице, но кто-то с рыжими усами, назвавшийся полковником Бодянским, главой киевской тайной полиции, несколько приставов, пятнадцать жандармов в белых шнурах поперек груди, полицейский наряд, несколько сыщиков в штатском и двое представителей генерального прокурора, всего человек тридцать, уже поднимались, взведя пистолеты, преграждая Якову путь.
— Именем Его Величества Государя Императора Николая Второго, — объявил рыжий полковник, — вы арестованы. Сопротивление равносильно смерти.
Мастер тотчас признался, что он еврей. Другой вины на нем нет никакой.
1
В длинной высокой камере под мрачным, облезлым зданием окружного суда в торговой части Плосского, в нескольких верстах от Лукьяновского, от завода, Яков в неотступной тоске тщетно пытался изгнать из памяти этот вид: он идет в наручниках между двух рядов конных жандармов, а те, сабли наголо, звякая шпорами, его гонят по заснеженным улицам, уже слякотным от санных полозьев.
Он молил полковника, чтобы ему дали идти по панели, где сраму меньше, но его выгнали на мокрую проезжую часть, и по дороге на работу люди останавливались, смотрели на него. Сперва просто смотрели, потом замирали, перешептывались, кто-то хихикал. Большинство, кажется, недоумевало, по какому случаю эдакий парад, но потом гимназистик в синей фуражке изобразил с помощью пальцев у себя на голове рожки и, пританцовывая на снегу, запел: «Жид, жид!» — и в ответ грянули крики, смех, улюлюканье. Кучка народа, женщины в том числе, потянулись следом, потешались над мастером, обзывали его «жид-убийца». Он хотел вырваться, убежать, но не посмел. Кто-то швырнул в него деревяшкой, угодил по шее лошади, та пустилась в дикий галоп и неслась, взметая снег, покуда ее не осадили. Тогда только полковник, гигант в меховой шапке, обнажил саблю, и толпа рассеялась.
Сначала он доставил арестанта в главную канцелярию тайной полиции, одноэтажный мрачный дом в закоулке; затем, после раздраженного разговора по телефону, обрывки которого слышал через стенку зажатый жандармами на скамье перепуганный арестант, препроводил Якова в подвал под окружным судом, а двое жандармов с обнаженными саблями остались охранять коридор. Яков, один в камере, ломая руки, причитал: «Мой Б-г, что я с собою сделал? Я в руках врагов!» Он бил себя кулаком в грудь, оплакивал свою судьбу, предвидел страшные беды. Кончится тем, что его в клочья растерзает толпа. Но бывали и минуты внезапной надежды, когда он думал, что стоит ему объяснить, почему он сделал то, что он сделал, и тотчас же его отпустят. Сдуру он прикинулся тем, кем он не был, в надежде, что это перед ним откроет «возможности», был хорошенько проучен и теперь платит за ученье. Если сейчас бы его отпустили. Он достаточно уже наказан. Он ругал себя за эгоизм и самонадеянность — и кто он такой? — обещал себе, что в будущем все переменится. Он выучил свой урок. Потом он вскочил и крикнул: «Какое будущее?» — но никто ему не ответил. Дневальный принес чай и ломоть черного хлеба, но есть он не мог, хотя у него со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. День шел, и мастер все чаще стонал, рвал на себе волосы, то и дело бился головой об стену. Жандарм это увидел и строго-настрого запретил.
К вечеру, сидя на жидком матрасе прямо на полу, арестант услышал в коридоре шаги, отличные от мерной поступи стражника, сменившего тех двух жандармов. Яков вскочил. Человек среднего роста, в черной шляпе и меховой шубе, спешил к темной камере по тускло освещенному коридору. Он приказал стражнику отпереть камеру, запереть его вместе с узником и уйти. Стражник мешкал. Человек терпеливо ждал.
— Мне не велено уходить, это уж как вашему благородию будет угодно, — говорил стражник. — Прокурор сказали — глаз не спускать с еврея этого, поскольку исключительно важный случай. Мне помощник ихний передал.
— Я здесь по официальному поручению и позову вас, когда мне понадобится. Подождите в дверях коридора.
Стражник нехотя отпер камеру, запер пришедшего с Яковом и ушел. Пришедший подождал, пока стражник уйдет, потом вынул из кармана свечной огарок, засветил и сунул в оплывки сырого воска на блюдце. Подержал блюдце, разглядывая Якова, потом поставил на стол. Увидел при свече пар у себя изо рта, накинул шубу. «Я подвержен простуде». Темная бородка, пенсне, шарф, обмотанный вокруг шеи. Оглядел мастера, который стоял навытяжку, весь напрягшись, и представился звучным спокойным голосом:
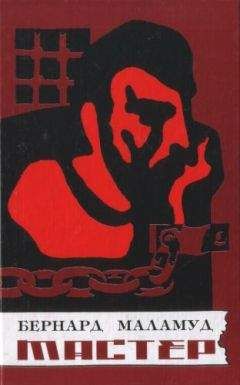


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)