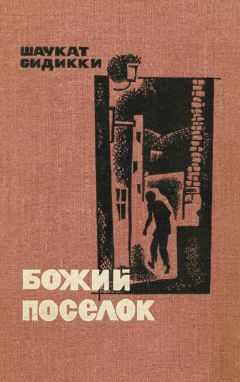— спрашивал варяг.
— Не пугай, пожалуйста. Я ведь женщина одинокая, за меня и вступиться некому.
— Нет, ну всё-таки, говори: пошла б?
— Засмеют же люди: ишь, чего надумали на старости лет.
— Да какие ж наши лета? Мы ещё ого-го! Мне всего шестьдесят один, да тебе сорок восемь будет. Разве это возраст?
— Шутки шутишь, господин наставник?
— Нет, серьёзно, Жива.
— Ты такой благородный, умный... Я же — темнота, всё по дому да по хозяйству...
— И наследство тебе оставлю — кое-что нажил за долгие годы. Лучше пусть тебе, чем кому-нибудь.
— Ну, не знаю, право. Разреши мне подумать, господин наставник.
— Думай, думай...
Между тем росла симпатия Добрыни к дочке Остромира. Кланялись они подчёркнуто вежливо, с затаённой улыбочкой, говорившей о многом. Иногда обменивались незначащими словами. Но Добрыня чувствовал: стоит сделать шаг — Верхослава уступит, сделается его, наградит ласками и нежностью. А её высокая грудь и крепкий стан обещали немыслимые блаженства.
Но жена была начеку. И когда новгородский посадник окончательно надумал заглянуть ночью к белотелой вдовушке для намеченного свидания, Несмеяна устроила маленький спектакль. Нет, она не кричала, не крушила посуду, не грозила покончить счёты с жизнью. Просто, смахнув слезу, прошептала грустно:
— Вот она, награда: я хочу супругу сына произвести, а супруг бежит за чужими юбками.
— Что ты мелешь? — возмутился Добрыня.
— А вот то, мой любезный муж. Богомил слушал мою утробу: говорит, будто к лету мальчика рожу.
— Быть того не может!
— Правда.
Он присел рядом с Несмеяной, обнял за костистые плечи, тихо покачал, как младенца в люльке:
— Счастье-то какое! Коль и впрямь будет сын — нареку его Любомиром. В знак того, что мы больше не поссоримся — никогда. Обещаю крепко.
— Не сбежишь к этой, Верхославке?
— Не сойти мне с этого места, если убегу.
— Как мне радостно это слышать, Добрынюшка.
— Не тревожься, милая: если я сказал — значит, как отрезал. И действительно: он крепился долго...
Накатила зимушка-зима. Навалило снегу, льдом сковало ручьи и речки, задымились печи в домах, и народ оделся в шубы и тулупы. Все готовились к святкам — славить бога зимы Коляду. 23 декабря (или студня, по-старому) в очагах гасился огонь, добывался новый — трением дубовых дощечек, — и пеклись специальные хлебы, чтобы отдавать колядующим. Собственно, «коляда» — это сокращённый вариант выражения «коллективная еда», складчины, когда ритуальные хлебы и другая снедь собиралась колядующими в мешки, а затем торжественно поедались всеми. Девушки гадали о будущем женихе — и по первому встречному, и по тени свечи, и заглядывая в кольцо, брошенное на блюдо с водой. Символом Коляды был козёл. И поэтому одевались в вывернутые мехом наружу шубы, маски с рогами и бородами, блеяли, скакали, пели специальные колядки о будущем урожае:
Ой, Овсень, ой. Коляда!
— Дома ли хозяин?
— Его дома нету.
Он уехал в поле пашеницу сеять.
Сейся, пашеница, колос колосистый,
Колос колосистый, зёрнышко зернисто!
26 декабря, в день Дажбога, собирались возле Лысой горы. Приводили жертвенного козла Жеривол на виду у всех нож точил, распевая песни, заклиная небо не скупиться на снег зимой, на тепло весной, на дожди в июне («кресене») и на сушь в июле («червене»). Волхв резал козла («делал карачун»), мясо которого затем варилось в котле и съедалось всем народом с ритуальным хлебом и специально приготовленным творогом. Начинался пир — с пивом, пирогами, плясками, кострами.
Павел, по прозвищу Варяжко, сын купца Иоанна, тоже готовился к колядкам: сделал маску рогатую из куска бересты, паклю привязал вместо бороды и разрисовал разноцветными красками. По бокам прикрепил тесёмочки. Начал примерять. Тут зашла его сестра Меланья, по прозвищу Найдёна. Ей уже исполнилось тринадцать, и была она не родной дочкой Иоанна, а приёмной.
— Ты чего? — спросила девица, раздувая щёки. — Хочешь пойти на эти бесовские игрища? Все твои ребята — язычники, — объяснила сестра. — Это праздник не наш, не христианский, понятно? Мы обязаны отмечать Рождество Христово — двадцать пятого декабря, и Крещение в январе — шестого. Больше ничего.
— Брось, Найдёнка, не вредничай. Я ж не собираюсь к Лысой горе идти, есть козла варёного. Просто так побегаю и поклянчу хлебов. Подурачусь со всеми. Разве это грех?
— Грех, конечно. Погляди на себя. Что за вид? Борода, рога. Никого не напоминает? Всё отцу расскажу, как приедет из Царьграда. Пусть тебя проучит.
— Просто ты завидуешь: хочешь сама пойти, но боишься Бога. Он на то и Бог, чтоб прощать.
— Глупый ты, Павлушка. Маленький ещё. Рассуждаешь по-детски.
— Строишь из себя святую угодницу. А самой с парнями обниматься охота — будто я не вижу! — и, одевшись в шапку, шубку, валенки, прихватив маску, выбежал из дома.
* * *
Вечерело. Снег хрустел у него под ногами. Небольшой морозец покалывал щёки. Струйки пара вылетали из носа и мгновенно таяли в густеющих сумерках.
За углом он услышал бубен, колокольца и дудки. Улыбнувшись, побежал нагонять ребят. Но увидел, что идут не его друзья, а чужая компания — различил среди колядующих тётку Ратшу, дочь Вавулы Налимыча — славную Меньшуту — и ещё нескольких знакомых с Подола.
— Эй, Варяжко! — крикнула Меньшута. — Хочешь с нами?
— Я своих ищу, — отозвался Павел.
— Ну и зря. Мы идём к князю во дворец, там дают жареных курей и хмельное пиво. Не пойдёшь — раскаешься.
— Ладно, уговорила.
И они гурьбой двинули к детинцу. Впереди скакал длинноногий парень в волосатой шубе и мохнатой маске: прыгал, пританцовывал, в воздухе размахивал тонкой красной палкой с бубенцами и лентами.
— Это кто? — спросил у Меньшуты Варяжко.
Девушка пожала плечами:
— Я его не знаю. Он пришёл уже с тёткой Ратшей, весь уже одетый, раскрашенный А поёт забавно. Ты послушай.
Юноша притопывал, хлопал рукавицами:
Мороз, Мороз Морозович!
Ходи кутью есть!
Цепом голову проломлю,
Метлой очи высеку!
Мороз, Мороз Морозович!
Ходи кутью есть!
А летом не бывай:
Цепом голову проломлю,
Метлой очи высеку!
— Где-то я его слышал, — сдвинул брови Павел. — Но не помню, где.
Подошли к воротам детинца. Спели песенку:
Три-татушки, три-тата,
Отворяйте ворота.
Подавайте сала клин,
Можа —